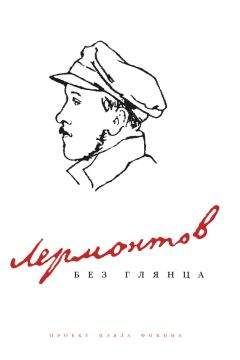Павел Фокин - Цветаева без глянца
Мария Ильинична Матвеева, жительница Елабуги. В записи Л. Г. Трубицыной, 7 октября 1985 г.:
Сестре моей Лене было около 20 лет. Она работала учительницей в деревне. Весной сильно простудилась… умерла 10 июня 1941 года. Мне тогда было 15 лет, и смерть Лены я хорошо помню. Мама часто ходила на могилку, и вот однажды вернулась очень расстроенная. Сказала, что рядом с Леночкиной могилой похоронили приезжую, которая повесилась. <…> Это уж мы потом узнали, что Цветаева — поэтесса. А тогда никто про нее ничего в Елабуге и не слышал [21; 254].
Зоя Ильинична Угольникова (урожд. Матвеева), жительница Елабуги. В записи Л. Г. Трубицыной, 2 октября 1989 г.:
Мама пошла на кладбище к Лене, а я увязалась за нею. <…> Похоронили-то мы Лену совсем недавно. Когда мы пришли, там как раз хоронили рядом. Мама к ним подошла, разговаривала. <…> Было там человек 6 или 7 самое большее. Мужчины и женщина одна с ними. Я слышала, как мужчина сказал: «Квартирантка задавилась. Недолго и пожила в Елабуге». Кто это были, не могу сказать, я взрослых совсем не знала. Мне ведь тогда 10 лет было. Может, кто из хозяев того дома, где она жила, может, кто другой. Был там, среди них, очень молодой мужчина. Потом, когда стали гроб спускать, я подошла поближе. Любопытно было. Тем более, что это был не гроб, а такой большой ящик. Для гроба очень большой. Гроб не гроб — ящик. Вот это в память сильно врезалось, что неестественный, ненастоящий гроб. Некрашеный ящик, необшитый. На веревках его спускали. <…> Но вот, что женщина там была, молодой парень и несколько мужчин — это я помню. Гроб-то ведь вчетвером спускать надо [21; 255].
Мария Ильинична Матвеева:
На могиле ее ничего не было, ни креста, ни какой другой отметки. А со временем могила просела, подправить-то ее было, по-видимому, некому. И вместо холмика стала ямка. Мы и забыли, что могила там, складывали туда веники старые, мусор всякий [21; 254].
ПСИХЕЯ
Марина Ивановна Цветаева. Из записной книжки 1919–1920 гг.:
Non une femme, — une ame [12; 30]
Марина Ивановна Цветаева. Из письма В. Н. Буниной. Париж, Ване, 22 ноября 1934 г.:
Мне был дан в колыбель ужасный дар — совести: неможение чужого страдания [9; 280].
Марина Ивановна Цветаева. Из записной книжки:
Душе, чтобы писать стихи, нужны впечатления. Для мысли впечатлений не надо, думать можно и в одиночной камере — и м. б. лучше чем где-либо. Чтобы ничто не мешало (не задевало). Душе же необходимо, чтобы ей мешали (задевали), п. ч. она в состоянии покоя не существует. (Покой — дух.) — (Что сказать о соли, к<отор>ая не соленая… Что сказать о боли, к<отор>ая не болит?..) Покой для души (боли) есть анестэзия: умерщвление самой сущности. Если вы говорите о душевном покое, как вершине, вы говорите о духовном покое, ибо в духе боли нет, он — над. (…Или вы говорите о физическом здоровье.) «Я знаю, я породил смертного сына» — есть ответ духа Гете, Гете — духа, des Geistes — Goethe[164]. Есть ответ бога. Душа его болела как у всех — и больше, ибо после этого бессмертного ответа — смертный живой поток крови, чуть не унесший — душу, которой он и был. Душа знает одно: болит. Есть одно: болит. Как болит — стихи. «Переболит» — быт: дурной опыт [10; 516–517].
Марина Ивановна Цветаева. Из письма А. А. Тесковой. Париж, 30 декабря 1925 г.:
Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес — только преображенная, т. е. — в искусстве. Если бы меня взяли за океан — в рай — и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая. Мне вещь сама по себе не нужна [8; 344].
Марина Ивановна Цветаева. Из письма А. А. Тесковой. St. Gilles-sur-Vie, 24 сентября 1926 г.:
Мне внешне всегда плохо, потому что я не люблю его (внешнего), не считаюсь с ним, не отдаю ему должной важности и с него ничего не требую. Все, что я люблю, из внешнего становится внутренним, с секунды моей любви перестает быть внешним, и этим опять-таки, хотя бы в обратную сторону, теряет свою «объективную» ценность. Так, напр<имер>, у меня есть с моря, принесенный приливом или оставленный отливом, окаменелый каштан-талисман. Это не вещь. Это — знак. Чего? Да хотя бы приливов и отливов. Потеряв такой каштан, я буду горевать. Потеряв 100 царск<их> тысяч рублей, в Госуд<арственном> Банке (революция), я не горевала ни минуты, ибо, не будучи с ними связана, не считала их своими, они в моей душе не числились, только в ухе (звук!) или в руке (чек), — на поверхности слуха и руки. Не имев, их не теряла [8; 349–350]
Марина Ивановна Цветаева. Из письма П. П. Сувчинскому. Лондон, 17 марта 1926 г.:
Мне нет дела до себя. Меня — если уж по чести — просто нет. Вся я — в своем, свое пожрало. Поэтому тащу человека в свое, никогда в себя, — от себя оттаскиваю: дом, где меня никогда не бывает. С собой я тороплюсь — как с умываньем, одеваньем, обедом, м. б. вся я — только это: несколько жестов, либо навязанных (быт), либо случайных (прихоть часа). Когда я говорю, я решаю, я действую — всегда плохо. Я — это когда мне скучно (страшно редко). Я — это то, что я с наслаждением брошу, сброшу, когда умру. Я — это когда меня бросает МОЕ. Я — это то, что меня всегда бросает. «Я» — всё, что не Я во мне, всё, чем меня заставляют быть. И диалог МОЕГО со мною всегда открывается словами:
«Вот видишь, какая ты дура!» (Мое — мне.)
* * *И — догадалась: «Я» ЭТО ПРОСТО ТЕЛО… et tout се qui s’en suit[165]: голод, холод, усталость, скука, пустота, зевки, насморк, хозяйство, случайные поцелуи, прочее. Всё НЕПРЕОБРАЖЕННОЕ.
* * *Не хочу, чтобы это любили. Я его сама еле терплю. В любви ко мне я одинока, не понимаю, томлюсь.
* * *«Я» — не пишу стихов [8; 317].
Марина Ивановна Цветаева:
16 февраля 1936. Если бы мне на выбор — никогда не увидать России — или никогда не увидать своих черновых тетрадей (хотя бы этой, с вариантами Ц<арской> Семьи) — не задумываясь, сразу. И ясно — что.
Россия без меня обойдется, тетради — нет.
Я без России обойдусь, без тетрадей — нет.
Потому что вовсе не: жить и писать, а жить-писать и: писать-жить. Т. е. всё осуществляется и даже живется (понимается <…>) только в тетради. А в жизни — что? В жизни — хозяйство: уборка, стирка, топка, забота. В жизни — функция и отсутствие. К<отор>ое другие наивно принимают за максимальное присутствие, до к<отор>ого моему так же далёко, как моей разговорной (говорят — блестящей) речи — до моей писаной. Если бы я в жизни присутствовала… — Нет такой жизни, которая бы вынесла мое присутствие [6; 605].