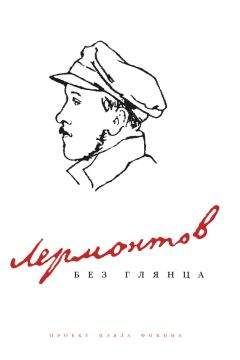Павел Фокин - Цветаева без глянца
Ну, а потом что: соседка позвала, вызвала врача, вызвала милицию, все это не скоро получилось. Пока, значит, никто не снимал, соседка посмотрела, что она совсем холодная, а я сама не смотрела. Потом пришел муж, потом пришел сын. Ну, вот сыну мне было трудно говорить, сообщать такую неприятную новость. Он проходит прямо в дом, он такой неразговорчивый был. Я говорю: «Гога, не ходите туда». А он говорит: «А почему не ходить?» — «Да, — я, вот… говорю, — там мама ваша». — «А как же? А почему мне не ходить? Она жива?» Почему-то он сказал; потому что накануне она приехала из Чистополя, и они что-то как-то между собой крупно разговаривали, вроде, как ссо… чего-то такое спорили, ну а чего? Не по-русски говорят они, я ничего не поняла. Ну, может быть, чего-нибудь тут она упомянула, потому что он, главное, сразу сказал, что «А она жива?» Ну, и больше он не пошел, и он не смотрел на нее [21; 139].
Лидия Михайловна Эренбург (урожд. Козинцева; 1900–1971), художница, жена И. Г. Эренбурга. В записи А. С. Эфрон:
Не верю я в предчувствия, приметы. А ведь бывает что-то такое в жизни. Давным-давно, еще до отъезда из России Марина подарила мне браслет, и носила я его всю жизнь (и тут же, простодушно): не потому, что мне его Марина подарила, а просто он был мне по руке и нравился. Браслет серебряный, литой, тяжелый — сломать такой немыслимо. И вот как-то — захожу в магазин, и что-то со звоном падает на пол; смотрю — у моих ног половина браслета, вторая осталась на руке. Подняла, посмотрела, через весь браслет — косой излом. Сломался у меня на руке! Стало мне как-то не по себе, волей-неволей запомнился этот день, число — 31 августа 1941 года. А через некоторое время Эренбург узнает — именно в этот день, этого числа погибла Марина [17; 254].
Анастасия Ивановна Цветаева:
Узнав о Марининой гибели[162] и об оставленных ею письмах — сыну, мужу, дочери и Асееву (поручая ему сына), я спросила себя — и весь воздух, который только и могла спросить: как могла Марина уйти, не упомянув меня? Молчание в ответ было моим живым страданием. Но на этот вопрос я получила ответ и именно в эти дни. Вторая жена моего мужа Бориса, самый близкий мне человек после Марины, прислала письмо, где сообщила, что в бумагах своего погибшего в тюрьме второго мужа, Б-на, она нашла подобранное им в Марининой квартире в Борисоглебском переулке (после ее отъезда из России) — письмо ко мне 1910 года, прощальное, написанное перед ее неудавшимся самоубийством и не уничтоженное ею с 1910 до 1922 года. «Я передам его при встрече, — писала Мария Ивановна, — а пока шлю его копию». Это было как удар грома в мои тоскующие и вопрошающие дни.
Увы, когда я пишу все это, у меня опять нет его со мной в мои 94 года, — но его содержание: Марина прощалась со мной, просила меня не бояться ее, знать твердо, что она никогда ко мне не придет даже призраком, помнить ее и в весенние вечера, петь те песни, детские, девические, которые мы пели вместе после нашей двойной любви к В. О. Нилендеру, — просила меня никогда ничего не бояться, ничего не жалеть. И была в конце фраза: «Только бы не оборвалась веревка! А то не довеситься — гадость, правда?» [16; 178]
Последний бесприют
Георгий Сергеевич Эфрон (Мур). Из дневника:
31/VIII-41 – 5/IX-41. За эти 5 дней произошли события, потрясшие и перевернувшие всю мою жизнь. 31-го августа мать покончила с собой — повесилась. Узнал я это, приходя с работы на аэродроме, куда меня мобилизовали. Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося ее «освободить». И кончила с собой. Оставила 3 письма: мне, Асееву и эвакуированным. Содержание письма ко мне: «Мурлыга! Прости меня. Но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это — уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик». Письмо к Асееву: «Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — просто взять его в сыновья — и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 450 р. и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына — заслуживает. А меня — простите. Не вынесла. МЦ. Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете — увезите с собой. Не бросайте!» Письмо к эвакуированным: «Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто сможет, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы — страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему с багажом — сложить и довезти. В Чистополе надеюсь на распродажу моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет. Адр. Асеева на конверте. Не похороните живой! Хорошенько проверьте». Вечером пришел милиционер и доктор, забрали эти письма и отвезли тело. На следующий день я пошел в милицию (к вечеру) и с большим трудом забрал письма, кроме одного (к эвакуированным), с которого мне дали копию. Милиция не хотела мне отдавать письма, кроме тех, копий. «Причина самоубийства должна оставаться у нас». Но я все-таки настоял на своем. В тот же день был в больнице, взял свидетельство о смерти, разрешение на похороны (в загсе). М. И. была в полном здоровий к моменту самоубийства. Через день мать похоронили. Долго ждали лошадей, гроб. Похоронена на средства горсовета на кладбище [19; 7–8].
Вадим Витальевич Сикорский:
Меня и еще кого-то, кто помоложе, двоих или троих, гоняли по местным организациям с хлопотами о похоронах и о месте на кладбище. Дело осложнялось тем, что людей умерло в это лихолетье много, намного больше обычного. Тут и немцы, военнопленные, и официально эвакуированные, и просто беженцы. Поэтому в городке и на своих могил и гробов не хватало. А об эвакуированных в этих случаях никто не заботился. Из центра было распоряжение помогать людям по мере возможности жильем, продуктами, трудоустройством. А о помощи гробами и могилами никаких циркуляров. И поэтому, когда эвакуированные, «выковыренные», как их здесь называли, и прочие пришлые стали и тут соперниками местных, начальство уперлось. Есть братская могила, и не все ли равно, где и с кем лежать в земле сырой. Отдельная могила — роскошь и предрассудок. Гробы — разбазаривание государственных ценностей, ибо оберегайте леса. А деревьев и на дрова — живых обогревать — не хватает. В больницах больные мерзнут, в школах — школьники. О ком же заботиться — о живых или о мертвых? <…> Героев-фронтовиков, отдавших жизнь в бою за Родину, хоронили в братских могилах, а тут… Какая-то самоубийца… Но все-таки с помощью самого высокого начальства добились разрешения, и все свершилось по-человечески [4; 215–216].