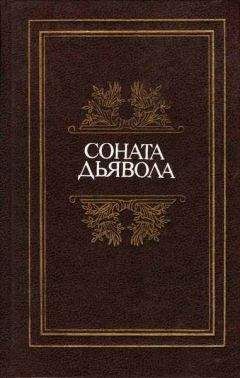Александр Суворов - Наука побеждать
Г-жа Синицкая прислала к графу Александру Васильевичу следующее письмо:
«Семьдесят лет живу на свете; шестнадцать взрослых детей схоронила; семнадцатого, последнюю мою надежду, молодость и запальчивый нрав погубили: Сибирь и вечное наказание достались ему в удел; а гроб для меня еще не отворился… Государь милосерд, граф Рымникский милостив и сострадателен: возврати мне сына и спаси отчаянную мать лейб-гренадерского полка капитана Синицкого». Ответ графа:
«Милостивая государыня!
Я молиться Богу буду; молись и ты, и оба молиться будем мы. С почтением пребуду, и проч».
Когда он успел испросить Синицкому прощение, то с коленопреклонением и со слезами пал пред образом и тотчас написал: «Утешенная мать, твой сын прощен… Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!»
* * *Кто видел, как я, беспрестанное стремление Суворова к благодетельствованию страждущего человечества, кто был теперь свидетелем сего сердечного его восторга, тот не может говорить об нем без жару.
Вот последний анекдот, – лучшего я не имею.
* * *Представив в истории российско-австрийской кампании генералиссимуса Суворова героем, в анекдотах человеком, но человеком необыкновенным, я теперь намереваюсь говорить здесь о беспредельной к нему любви и доверенности войска, и какими способами преуспел он в том.
Можно сказать, что войско не только что любило, но почти боготворило сего великого, единственного полководца. Все, что он ни скажет, было свято; никто не смел противоречить или рассуждать. В Италии, в неудачном одном деле, где многочисленность и выгодная неприступная позиция неприятеля делали все покушения с нашей стороны тщетными, начальник придумал хитрость закричать: «Суворов здесь!» – тотчас все бросились вперед и легли. Но Суворов, узнав о том, сделал строжайший выговор и оплакал сих жертв слепой к нему преданности. Под Треббиею был я очевидцем, что на разных пунктах, где только начнут расстраиваться войска, его одно присутствие тотчас восстановляло порядок.
Я стоял с Вилимом Христофоровичем Дерфельденом на возвышенном месте и удивлялся сим явлениям. «Они для вас новы, – сказал мне почтеннейший генерал Дерфельден, – а я насмотрелся в течение тридцати пяти лет, как служу с этим непонятным чудаком. Это какой-то священный талисман, который довольно развозить и показывать только, чтобы одерживать победы. Он меня несколько раз в жизнь мою стыдил. Часто диспозиция его казалась мне сумбуром; но следствия мне доказывали противное. Справедливо сказала, – продолжал он, – Екатерина: «Я посылаю в Польшу две армии: одну – армию, а другую – Суворова». Едва кончил он разговор, как неприятель уже обращен в бегство. Дерфельден поскакал и крикнул мне: «Вы видите, что я не лгу».
Но не на одном поле сражения приобрел он сию высшую степень любви и доверенности. Старики солдаты любили его в лагере и на квартирах, рассказывали о прежних его подвигах молодым; забавно передавали им его странности, его с ними разговоры; рассказывали об нем анекдоты, иногда небывалые, необыкновенные, шутливые. Словом, он был у них книгою, которую ежедневно читали. Взглянуть на него – и все веселы. Они почитали его каким-то существом высшего рода. Чтобы приобресть любовь союзных солдат, показался он с одним казаком на австрийской батарее, на которую сыпался с неприятельской стороны град ядер. Шутил с солдатами, которые были от него в восторге. Сие его бесстрашие разнеслось по всей их армии, и он сделался, так сказать, их идолом. Офицеры видели в нем отца, любящего награждать каждый шаг усердия. Генералы его любили, но и боялись: ибо с них взыскивал он строго и стыдил их разными насмешками по-своему.
Так, узнав, что один генерал отозвался: не нужна мне диспозиция, при мне шпага, сказал Суворов: «Не показывайте ему диспозиции. Он храбр со шпагою, а полк его с топором: полк его когда-то выстроил ему дачу». Генерал покраснел. Дерфельден, Розенберг, Мелас и прочие все генералы с некоторою боязнию с ним обращались: ибо всегда опасались, чтобы он их не кольнул своею особенною насмешкою. Но вся армия была совершенно уверена, что он за неисправность накажет отечески или словами его: «Солдату палочки, а офицеру арест». Но никогда никого не погубит.
Величайшее на всю армию влияние имело его благочестие. Солдату известно было оное. Ибо всегда после победы приносил он, со всем войском, пред алтарем всех благ Подателя благоговейные, сердечные благодарения. Таковой пример любимого военачальника утверждал в сердцах его подчиненных сию христианскую истину, что всякая их победа есть дар от Бога. Часто кричал он войску: «Начало премудрости есть страх Господень! Так, уроками мудрости, действовал он на умы!»
Знал он, что солдат не любит в начальнике своем пышности; и потому, соображаясь с сим, жил и он солдатом. Враг роскоши, обедал по-солдатски рано, хлебал солдатские щи и кашицу. Сие единообразие жизни с жизнию солдат сближало его с их сердцами; и они видели в нем Героя, Начальника, отца и первого своего брата – солдата. Сие поддерживал он и своею одеждою. Кроме торжественных праздничных дней, когда он украшал себя знаками отличия, был он всегда одет в простой солдатской куртке и тогда не требовал никаких почестей. Но величайшее искусство его было в разговоре со своими чудо-богатырями. Тут был он неподражаем. В их вкусе, в их слоге, в их языке беседовал он с ними. Опыты долговременной его с нижних чинов службы познакомили его с кругом их познаний и понятий, и каждое его слово и изречение были к тому приспособлены, как-то доказывают: его приказы, разговор с солдатами, словесное поучение солдатам и многие другие, которые они вытверживали наизусть и передавали товарищам.
Солдаты говаривали: «Наш Суворов с нами в победах и везде в паю, только не в добыче: она вся наша». Такая мысль о бескорыстии начальника усиливала их к нему любовь. К сей добродетели присоединял он и справедливость. Под Рымником, по одержании победы, велел он разделить все доставшееся обеим союзным армиям поровну. И по примеру двух друзей, Суворова и Кобургского, русские и австрийцы сделались братьями – одною душою. О корыстолюбии Массены говорил он: «Ужели не вспомнит он, что в тесном гробе его не поместятся все заграбленные им и кровию обагренные миллионы? Добыча ваша, а не моя: спасибо, чудо-богатыри!» – кричал он; и сии слова разносились по рядам войска.
Благодарность его была не на словах. Тотчас спешил он в реляции повергнуть к стопам Августейшего Царского Престола достойных сподвижников своих. Уверенность, что ни один подвиг ревности не остается без внимания беспристрастного и благодетельного начальника, подвизала их к победам. Однажды в Турецкую кампанию все полученные от Екатерины награды, знаки отличия наклал он в мешок; выходит согнувшись, неся оный на плечах, и кричит всем ожидающим наград: «Ах! помилуй Бог! Как тяжела ноша. Так-то и нам тяжко было». Вдруг раскрывает мешок, вынимает знаки отличия, украшает ими и восклицает: «Нет! Легко бремя, когда Матушка так нас, детей своих, милует и лелеет». Ура раздавалось по всем рядам.