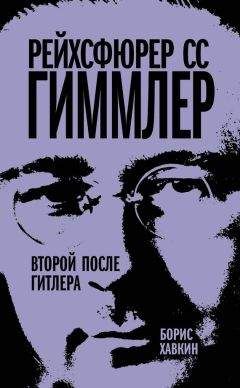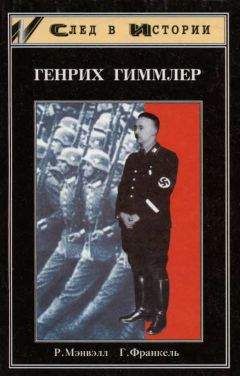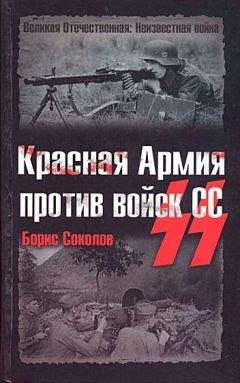Салвадор Дали - Дневник одного гения
Когда сюрреалисты впервые увидели в доме моего отца в Кадакесе только что законченную мною картину, которую Поль Элюар окрестил «Мрачная игра», они были совершенно шокированы изображенными на ней скатологическими (скатологический (от греч.)— связанный с фекалиями, экскрементами (примеч. пер.)) и анальными деталями. Даже Гала осудила тогда мое творение со всей своей неистовой страстью, против которой я взбунтовался в тот день, но которой с тех пор научился поклоняться. В то время я собирался присоединиться к группе сюрреалистов, только что обстоятельно изучив и разобрав по косточкам все их идеи и лозунги. Насколько я понял, речь там шла как раз о том, чтобы спонтанно воспроизводить замысел, не связывая себя никакими рациональными, эстетическими или моральными ограничениями. А тут, не успел я с самыми что ни на есть благими намерениями действительно вступить в эту группу, как надо мной уже собирались учинить насилие сродни тому, которое я испытывал со стороны своего собственного семейства. Гала первой предупредила меня, что среди сюрреалистов я буду страдать от тех же самых «вето», тех же запретов, что и у себя дома, и что, в сущности, все они обычные буржуа. Залог моей силы, пророчила она, состоит в том, чтобы держаться на равной дистанции от всех без исключения художественных и литературных течений. С интуицией, которая тогда еще превосходила мою собственную, она добавляла, что оригинальности моего параноидно-критического аналитического метода с лихвой хватило бы любому члену этой группы, чтобы отделиться и основать свою собственную отдельную школу. Но мой ницшеанский динамизм не желал внимать словам Галы. Я категорически отказывался видеть в сюрреалистах просто еще одну литературно-художественную группу. Я считал, что они способны —освободить человека от тирании «рационального практического мира». Я хотел стать Ницше иррационального. Фанатичный рационалист, я один знал, чего хочу. Я погружусь в мир иррационального не в погоне за самой Иррациональностью, не ради того, чтобы, уподобляясь всем прочим, с самовлюбленностью Нарцисса поклоняться собственному отражению или послушно ловить чувственные ощущения, нет, моя цель в другом — я дам бой и одержу «Победу над Иррациональным» (Сальвадор Дали. Победа над Иррациональным. (Editions surrealistes, 1935). В то время друзья мои, подобно многим другим, в том числе и самому Ницше, поддавшись романтической слабости, позволили увлечь себя миру иррационального.
В конце концов, весь как губка пропитавшись всем, что успели к тому времени опубликовать сюрреалисты, и дополнив это трудами Лотреамона и маркиза де Сада, я все-таки вступил в группу — вооружившись благими намерениями весьма иезуитского свойства, но ни на минуту не расставаясь при этом с вполне четкой задней мыслью поскорее стать главою этой группы. С чего это вдруг я должен был мучиться христианскими угрызениями совести перед лицом своего новообретенного отца Андре Бретона, если у меня их не было даже в отношении того, кому я действительно был обязан своим появлением на свет?
Итак, я принял сюрреализм за чистую монету, вместе со всей той кровью и экскрементами, которыми так обильно уснащали свои яростные памфлеты его верные сторонники. Так же как, читая отцовские книги, я поставил себе цель стать примерным атеистом, я и здесь так вдумчиво и прилежно осваивал азы сюрреализма, что очень скоро стал единственным последовательным, «настоящим сюрреалистом». В конце концов дело дошло до того, что меня исключили из группы, потому что я был слишком уж ревностным сюрреалистом. Доводы, которые они приводили в пользу моего исключения, как две капли воды напоминали мне те, которыми мотивировалось мое изгнание из лона семьи. И вновь Гала Градива, «шествующая вперед» (Эпитет Gradivus (латин.) использовался древними поэтами исключительно с именем Марса — «Марс Градивус» — бог войны, выступающий в бой. Градива (Gradiva) — героиня повести В. Иенсена, послужившей основой для знаменитой статьи Зигмунда Фрейда «Бред и сны в „Градиве“ В. —Иенсена» (примеч. пер.), «Непорочная интуиция», оказалась права. Сегодня я могу сказать вам, что из всех моих убеждений лишь два нельзя объяснить простой волей к власти: первое-это обретенная мною с 1949 года Вера в Бога, а второе — непоколебимая уверенность, что Гала будет всегда права во всем, что касается моего будущего.
Когда Бретон открыл для себя мою живопись, он был явно шокирован замаравшими ее скатологическими деталями. Меня это удивило. То обстоятельство, что я дебютировал в г…, можно было бы потом интерпретировать с позиций психоанализа как доброе предзнаменование золотого дождя, который — о счастье! — в один прекрасный день грозил обрушиться на мою голову. Напрасно пытался я вдолбить сюрреалистам, что все эти скатологические детали могут лишь принести удачу всему нашему движению. Напрасно призывал я на помощь пищеварительную иконографию всех времен и народов — курицу, несущую золотые яйца, кишечные наваждения Данаи, испражняющегося золотом осла, — никто не хотел мне верить. Тогда я принял решение. Раз они не хотят г…, которое я столь щедро им предлагаю, — что ж, тем хуже для них, все эти золотые россыпи достанутся мне одному. Так что знаменитую анаграмму «Avida Dollars», «Жажду долларов», старательно подобранную Бретоном двадцать лет спустя, можно было бы с полным правом провидчески составить уже в то время.
Достаточно мне было провести в лоне группы сюрреалистов всего лишь одну неделю, чтобы понять, насколько Гала была права. Они проявили известную терпимость к моим скатологическим сюжетам. Зато объявили вне закона, наложив «табу» на многое другое. Я без труда распознал здесь те же самые запреты, от которых страдал в своем семействе. Изображать кровь мне разрешили. По желанию я даже мог добавить туда немного каки. Но на каку без добавок я уже права не имел. Мне было позволено показывать половые органы, но никаких анальных фантазмов. На любую задницу смотрели очень косо. К лесбиянкам они относились вполне доброжелательно, но совершенно не терпели педерастов. В видениях без всяких ограничений допускался садизм, зонтики и швейные машинки, однако любые религиозные сюжеты, пусть даже в чисто мистическом плане, категорически воспрещались всем, кроме откровенных святотатцев. Просто грезить о рафаэлевской мадонне, не имея в виду никакого богохульства, — об этом нельзя было даже заикаться…
Как я уже сказал, я заделался стопроцентным сюрреалистом. И с полной искренностью и добросовестностью решил довести свои эксперименты до конца, до самых вопиющих и несообразных крайностей. Я чувствовал в себе готовность действовать с тем параноидным средиземноморским лицемерием, на которое в своей порочности, пожалуй, я один и был способен. Самым важным для меня тогда было как можно больше нагрешить — хотя уже в тот момент я был совершенно очарован поэмами о Святом Иоанне Крестителе, которые знал лишь по восторженным декламациям Гарсиа Лорки. Но я уже предчувствовал, что настанет день, и мне придется решать для себя вопрос о религии. Подобно Святому Августину, который, предаваясь распутству и оргиям, молил Бога даровать ему Веру, я взывал к Небесам, добавляя при этом: «Но только не сейчас. Ну что нам стоит подождать еще немного…» Прежде чем моя жизнь изменилась, превратившись в то, чем она Стала сегодня — образцом аскетизма и добродетели, — я еще долго цеплялся за свой иллюзорный сюрреализм, пытаясь вкусить полиморфный порок во всем его многообразии, — так спящий тщетно старается хоть на минутку-другую удержать последние крохи уходящего вакхического сновидения. Ницшеанский Дионис повсюду следовал за мной по пятам, словно терпеливая нянька, пока я наконец не обнаружил, что на голове у него появился шиньон, а рукав украшает повязка, на которой изображен крест с загнутыми концами, похожий на свастику. Значит, всей этой истории суждено было закончиться свастикой или — да простят мне это выражение! — попросту загнуться, как уже начинало потихоньку загибаться и вонять многое вокруг.