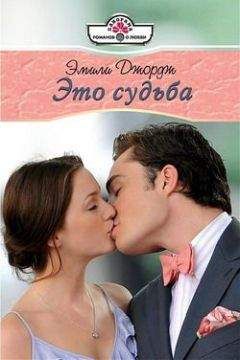Андрей Бабицкий - Моя войне
— Что же вы здесь делаете, ребята! Могли бы дома вставлять жене.
Подобные разговоры чеченцы, не привыкшие публично обсуждать интимную жизнь, воспринимали очень болезненно. Но охранник при этом требовал, чтобы ему отвечали, и если камера молчала в ответ на его вопросы, это приводило его в бешенство. Так что всегда находились люди, которые поневоле поддакивали.
Иногда на него находил другой стих: он заставлял всех выстраиваться и начинал пересчитывать. Спьяну считать он не мог, просто смотрел в глазок и требовал, чтобы все прошли мимо двери. Это как раз он запускал в камеру слезоточивый газ.
Другой охранник, совершенно бандитского вида, просто ходил и орал на всех матом. Если охране что-то не нравилось в ответах или кто-то зазевался с отбоем или не так встал в строй, всю камеру поднимали и заставляли часами стоять с поднятыми руками. Если охранник замечал, что кто-то присел или разговаривает, то нарушителя выдергивали из камеры и избивали.
В моем существовании что-то стало меняться дня через три-четыре, когда российское телевидение заговорило о том, что я пропал. Как-то раз после отбоя кто-то из охранников подошел к двери и сказал:
— Бабицкий, дай расписку.
Я дал расписку, в которой были перечислены конфискованные у меня вещи. Возражать, конечно, было бессмысленно. Выяснилось, что пропали мои очки: кому-то показалось, что они в золотой оправе. Кроме того, один из охранников украл мои часы, продал их и страшно из-за этого нервничал. Потом я узнал, что он не просто уничтожил расписку, но вычеркнул из тюремного журнала весь список изъятых у меня вещей.
Среди ночи на третий день меня разбудили:
— Бабицкий, с вещами на выход!
Оказалось, что почему-то решено перевести меня в одиночную камеру. Я потом измерил ее спичечным коробком: в длину 1 м 85 см, в ширину 1 м 20 см. Бетонный прямоугольник, маленькая скамейка — сантиметров двадцать, вделанная в стену, очень высокий потолок — метра четыре.
Эта камера, как ни странно, считалась привилегированной: для русских. До меня в ней держали каких-то проштрафившихся солдат.
Через несколько часов ко мне забросили белобрысого русского пацана — Игоря Ращупкина из станицы Калиновской. Прежде, когда в Наурском районе выращивали виноград, Игорь работал на винно-коньячном заводе. Война уничтожила весь урожай винограда, и последние два-три года Игорь выделывал ондатровые шапки. Его арестовал омоновский патруль, когда он, не взяв с собой паспорт, вышел проверить капканы на ондатру. Игоря схватили, посадили в местный отдел милиции, там он и еще двое чеченцев простояли пять часов на коленях, потом всех перевезли в Чернокозово. По дороге его, русского, не трогали, а чеченцев зверски избили.
Поначалу я решил, что Игорь — «подсадная утка», но потом довольно быстро убедился, что это не так. В камере с Игорем я провел две недели.
В 1998 году Игорь уже сидел несколько дней в этой тюрьме по приговору шариатского суда: у него украли мотоцикл, он пошел жаловаться, в результате сам же оказался виноват и просидел несколько дней, пока мать не собрала по соседям деньги и не заплатила штраф.
Игорь терпеть не мог чеченцев. В советские времена в северных районах Чечни, где русские всегда преобладали, они неплохо ладили с чеченцами, но в последние годы стало совсем_невыносимо. Игорь говорил, что его часто избивали на улице без всякого повода. В основном русская молодежь уехала в Россию, Игорь был одним из немногих оставшихся. Его поразило, что чеченцы боятся тюремных условий:
— Вот как они, оказывается, могут себя вести!
Обрадовало его и то, что в женской камере сидела чеченка, которая с первых дней дудаевской власти стала одной из самых энергичных сторонниц независимости и притесняла русских в Калиновской. В предвоенные годы она не давала уезжавшим русским продавать дома, вынуждая их просто бросать жилье. После того как село заняла российская армия, эта женщина умудрилась устроиться в промосковскую администрацию, и когда ставропольские казаки прислали в качестве гуманитарной помощи коров для русских крестьян, она передала всех этих коров чеченцам.
— Сомнительно, что после такой войны, — размышлял Игорь, — русские и чеченцы смогут нормально жить вместе. Даже сейчас, через три месяца после того, как русские войска заняли северные районы, чеченцы все равно не боялись: враждебность было не искоренить.
Поначалу Игорь убежда меня, что Путин и российская армия — серьезная, хорошая защита для русских в Чечне. Но просидев несколько дней и совершенно одурев от непонимания, за что его держат, он пришел в отчаяние и даже Путина разлюбил. Игорь не мог понять, почему люди, которых он считал своими защитниками, так с ним обращаются.
Я хорошо знаю эту ситуацию по первой войне, когда русские в Грозном встречали федеральную армию как освободительницу. Понятно, что у русских были серьезные проблемы: их унижали, убивали, никто их не защищал. Но радости повального мародерства, когда они бросились грабить соседей-чеченцев, сильно отозвались после войны.
Самой большой проблемой для нас были спички. Я нашел кусочек лезвия, спрятанный кем-то в дырке в бетонной стене, этим лезвием мы научились делить одну спичку на три части.
Было очень тяжело обходиться без очков, которые у меня отобрали в первый день вместе со всеми вещами. Я почти ничего не видел.
В камере не было параши. Нас выводили на оправку один раз в сутки, а иногда забывали вообще. Зато не было проблем с водой, как в других камерах, где заключенные страдали от жажды: каждый день или через день нам заполняли пятилитровый бачок.
Кормили нас все тем же комбикормом — раз в сутки, а то и раз в двое суток.
Страшнее всего был холод. В одиночной камере было значительно холоднее, чем в общей: минус один-два градуса. Все, что мне удалось вынести из Грозного, — несколько пар носков. Приходилось заправлять штаны в носки и затыкать все щели в одежде, чтобы не продувало. У Игоря был только один носок с резинкой, и я придумал способ, как связать другой тесемкой. Перед сном я заправлял ноги в один рукав шинели, а Игорь — в другой, такое у нас было одеяло. Два узких матраца полностью занимали камеру, угол одного мы заворачивали на стенку: из-под железной двери страшно дуло.
Мы хронически не высыпались. Ночью не давали спать крики избиваемых, и я прислушивался, стараясь понять, что охранники делают со своими жертвами. Днем спать запрещали, и я научился впадать в короткую дрему на пять-семь минут. Время от времени, когда охрана отлучалась, я садился на скамейку, закрывался шинелью и мгновенно засыпал. Нескольких минут сна мне хватало — я просыпался бодрый.