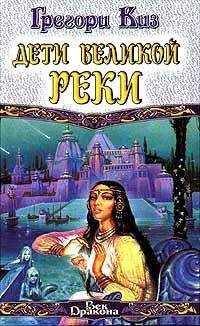Михаил Загребельный - Павло Загребельный
Чему? Взгорью? Ракете? Но нет, ничего не будет». А за двадцать страниц до этого грустного окончания сказано про Крещатик: «Главная улица – сплошной огромный кошмар». Наверное, и про Софию эта женщина написала бы что-нибудь резкое и несправедливое в своей самовлюбленности, но не смогла этого сделать, потому что София уже освящена девятисотлетним признанием, а неписаные правила потребительски-художественного снобизма велят склонять голову перед тем, перед чем склонялись или склоняются все. А что такое искусство? Только ли привычное, установившееся, канонизированное, внесенное во все каталоги, или непременно новое? Ведь все когда-то было новым, все имело свое начало. А с чего начинается искусство? Не с протеста ли? Против природы. Против Бога. Против собственного бессилия. Против ничтожности.
Апологетика убивает искусство. Украшательство чуждо человеческому существу. Оно чем-то напоминает виртуозную импотенцию. Но… Протест должен быть подкреплен талантливостью. Протестуя, необходимо предложить что-то существенное взамен. А не просто голый выкрик, пускай даже и самый искренний. От женщин, к сожалению, это иногда можно услышать. Женщины ближе к вещам окончательным… Ага, уже думал об этом… Но в самом деле так оно и есть. Одна появилась на Крещатике, чтобы дописать свои мемуары, объездила весь мир, не открыла ничего нового, топтала тысячелетние тропинки пилигримов и глобтротеров: Пирей, Прованс, красное солнце над пустыней фараонов и легионов Цезаря, римские форумы, бразильские гитары… Ну и что? Разозленная отсутствием собственной оригинальности, решила хоть как-то проявить свой «протест». Ах, вы восторгаетесь своим Хрещатиком? Так получите же: «Сплошной огромный кошмар». Спасибо! У вас есть своя меланхолия, а у нас – Крещатик. Точно так же было когда-то, возможно, и с Софией, однако все меланхолики умерли, а София стоит. И теперь вот еще: ага, вы все бредите новостройками, героизмом, подъемом, необычностью? Вот вам ночь на новостройке! Получите! Думаете, просто выкрик истеричной женщины? Не так просто!
…Вспомнилась иностранка, назвавшая Крещатик «сплошным огромным кошмаром». Женщина в искусстве всегда подозрительна. У нее не чистые намерения. Она хочет нравиться.
Любой ценой. А может, наоборот? Подозрительны мужчины, которые пристают к женщинам, имеющим дело с искусством, и хотят нравиться женщинам? Или не все ли равно? Все хотят нравиться. Он тоже, мечтая о большой работе над раскрытием тайны сооружения Софии».
С осени 2009 года творческое объединение украинских студентов издает сетевой журнал «Ультра – Украина». Они решили вместо того, чтобы заклинать: «любите Украину», объяснять людям, за что ее любить. В январе 2010 года Оксана Кулиш предала гласности свои мысли о романе «Диво». Она считает роман книгой о мудрости. Что самое главное для нее – это книга о мудрости любви, с которой София Киевская была украшена, отделана. О. Кулиш полагает, что «Диво» – это роман о художнике. Роман-картина. И представляет, как бы нарисовать подобное полотно. Ей хочется придать ему штрихи экспрессионизма, немного классицизма, импрессионистические мазки. Для изображения картин XX века можно добавить супрематизм, но обойтись без кубизма, и без того в этом столетии все запутано. Днепр и киевское небо выписать импрессионистично – кажется, они так и не изменились за тысячелетие.
Российский литератор Валентин Оскоцкий (1934—2010) скрупулезно исследовал исторические романы Загребельного. Его публикации в Москве помогали Загребельному печататься на русском, пока в Киеве разбирали очередной донос.
Загребельный в романе «Смерть в Киеве», на взгляд Оскоцкого, противопоставляет свои воззрения традиционной историографии, от В. Татищева до М. Грушевского, – не видевшей в «битвах удельных междоусобиц, которые гремели в нашей истории», ничего значительного для мысли философа и кисти живописца:
«Сам он черпает в них не просто острые драматические ситуации, как, скажем, убийство в Киеве (1147 г.) князя Игоря Ольговича, которые кладет в основу сюжетной интриги, динамичной и занимательной. Главное, что привлекает его аналитическое внимание, – проявления самобытных характеров людей, участвующих в драмах истории, сложное сплетение их различных, противоречивых, часто несовместимых позиций, устремлений, интересов, перепроверяемых моралью народа, его социальными и нравственными идеалами. В конечном счете голос народа решает и исход полувековой борьбы Юрия Долгорукого за великокняжеский стол. Чтобы услышать, понять этот неискаженный голос, «от двора к двору, все дальше и дальше от Киевской Горы, ближе к бедности, к убогости» упрямо идет лекарь Дулеб, бескорыстный рыцарь правды и истины. Боярская Гора и «затопленный водою, занесенный песками, голодный, ободранный, обнищавший, но независимый» Подол противостоят в романе как два социальных полюса. «Гора была равнодушной к тому, что творилось там, внизу, в глубинах, где в скользкой грязи теснилась беднота, поставленная лицом к лицу супротив стихии, незащищенная, привычная к жертвам. Чем больше страданий обрушивалось на нее, тем спокойнее чувствовала себя Гора, тем увереннее держала себя…»
Оскоцкий обращает внимание на такие высказывания Загребельного: «Наиболее легкий путь для романиста – беллетризация исторических сведений». И признавался, что самого его всегда влечет «путь иной, трудный… путь переосмысления фактов и событий, иногда канонизированных в трудах историков и писателей». Не потому ли так остросюжетны его романы, что в каждом из них он «пытался воссоздать не только быт, обстановку, политическую и нравственную атмосферу того времени, но и психологию наших предшественников»? «Я сторонник литературы сюжетной, – подчеркивал писатель, – ибо сюжет – это не просто занимательность. Сюжет – это характеры людей и композиция, а композиция (особенно в романе) – это, в свою очередь, если хотите, элемент не просто формальный, а мировоззренческий».
Только в апреле 1968 года Загребельный и Гончар впервые разговорятся о том пожаре храма в 1929 году, который, оказалось, они оба мальчиками, в селах Солошино и Суха, увидели ночью далеко в полтавской степи. И почувствуют, по воспоминаниям Загребельного: «…Общее взаимопонимание, без расспросов, без пояснений, без времени на размышления, так, будто это был известный обоим пароль, знак и знамение. Мы писали свои романы в 1967 году («Диво» и «Собор». – Авт.) среди неимоверного галдежа и политической трескотни: празднование пятидесятилетнего юбилея советской власти. Той самой власти, продуктом и воспитанниками которой мы были, всеми достижениями которой имели право гордиться, но и за все преступления, за все бедствие и всю неправду которой должны были нести суммарную ответственность».