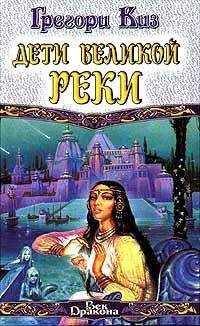Михаил Загребельный - Павло Загребельный
Загребельный оставил воспоминания «Волшебная нить Параджанова». Кроме сценария «Киевских фресок» Загребельный работал еще с Параджановым над сценариями «Интермеццо», «Дочь букиниста». Все запретили. А самого Сергея Иосифовича в декабре 1973 года упрятали за решетку на 4 года и 11 дней и 15 лет не давали снимать фильмы.
«Фрески…» и «Интермеццо» были опубликованы в Киеве в 1994 году. «Фрески…» состояли из десяти кинофресок. Действующие лица: Человек, Женщина, Грузчик. В эпизодах: Все граждане города Киева. Место и время действия – 9 мая 1965 года. Последние кадры в – музее на Терещенковской. Пустая рама с надписью «Веласкес»… Натирает пол юная инфанта Маргарита… Весна… Инфанта… Красные колонны… Кобзарь…
«Интермеццо» напечатали в переводе Михайлины Коцюбинской:
«Початок XX століття. Місце дії – Чернігів… Діюча особа – Коцюбинський Михайло. Діючі символи і алегорії: Моя утома… Ниви у червні. Сонце. Три білих вівчарки. Зозуля. Жайворонок. Залізна рука міста. Людське горе».
Фильм завершался так: «Сонце палило землю і людину на землі… Збоку гола Людина, що йде до Сонця, здавалася пророком!!! У степу серед збіжжя стояли дванадцять друкарських верстатів фірми «Херман Мауер»… оголені до пояса семінаристи чернігівської семінарії клали чисті аркуші паперу на шиферні дошки… Семінаристи тягнули на себе друкарську ручку верстата… Ручка верстата видавала дзвін коси… На білому аркуші паперу відбиток золота – Сонця. Білий аркуш – золото Сонця. Дзвін коси… Білий аркуш – золото Сонця! Дзвін коси… Білий аркуш – золото Сонця!»
В 1960-х в Киев приехал Джон Апдайк с женой Мэри. «Кентавр» уже был переведен на русский. Писатель отказался от казенных приемов. Отец пригласил его на завтрак домой. Апдайк поначалу решил, что ему готовят показуху. Успокоился он, когда прошелся по улице Мечникова мимо колоритной очереди у пивной бочки, дощатого пункта для приема бутылок, мрачного гастрономчика и зияющей витрины обувного магазина (там сейчас банк). Потом он вдоволь начихался в тесном кабинете Павла Загребельного, заваленном под самый потолок книгами. Потешился дореволюционными изданиями Толстого и Достоевского, напечатанным, как сообщалось на титульной странице, на бумаге без использования древесной массы. Когда фотографировались на память в дворике под зеленой вербой, Загребельный поинтересовался, что и кого бы хотелось Апдайку еще увидеть в Киеве. Он ответил: соборы и Сергея Параджанова.
В 1970-х Загребельный ужинал с Апдайком в Бостоне в его любимом ресторане.
«Но, кажется, в книге о путешествии в Киев ты не написал об этом?» – спросил отец.
«Ты ведь знаешь, мы не всегда пишем о том, о чем более всего помним», – ответил Апдайк.
«Огнем – для него стала война. Водой, илистой болотной водой, в которой сложно было не утонуть и не захлебнуться, – немецкий плен. Медными трубами – провинциальная литература, в тесных рамках которой он должен был существовать, литература времен УССР с практически узаконенным стукачеством, сервильностью и культом бездарности. Проза колхозных подростков, стихи стукачей-извращенцев и пьесы цекистских жен – в этом порочном треугольнике Загребельный никогда не был своим. На неделю раньше Загребельного этот мир покинул американский прозаик Джон Апдайк, – рассуждает 04.02.2009 автор под псевдонимом Андрей Корсак. – Апдайк и Загребельный были абсолютно разными людьми, однако их объединяло шпенглеровское чувство «большого стиля» и больших тем. Писать можно даже о стирке белья – при правильно подобранном стилевом регистре даже это зазвучит как проза Юлия Цезаря. Загребельный умел безошибочно угадывать стилевые регистры.
Простите за цинизм, но он умер вовремя. Он умер в стране, где практически перестали читать. Он умер в стране, где уничтожаются книжные магазины, поступаясь вожделенной площадью в центре столицы лавчонкам для сильных мира сего, где торгуют кубинскими сигарами и нижним бельем. Он умер в стране, где изящная словесность окончательно дегенерировала в еще одно развлечение для богатых господ наряду с японскими ресторанами и фитнес-центрами. Он умер в стране, где героизм и честь стали разменной монетой, материалом для похабных анекдотов, поводом для циничных острот…»
Шесть исторических романов за 15 лет. Киевская Русь. Евпраксия. Роксолана. Богдан Хмельницкий…
В 1968 году после шестимесячной проверки специальной комиссией на предмет буржуазного национализма выходит первый исторический роман Загребельного «Диво». Среди доносчиков был советский украинский писатель, который на украинском «ще» писал «ісче». Загребельный вскоре издаст еще два исторических романа о Киеве, Киевской Руси: «Первомост» (1969) и «Смерть в Киеве» (1972). В феврале 2009 года, через несколько дней после кончины отца, к нам домой позвонил некто, представился и попросил адрес электронной почты, чтобы направить некий интересный материал. Мы получили пасквиль на упомянутые романы от 1974 года, которую автор разослал по украинским литературным изданиям. Сейчас хочу ответить доброжелателю, что до лексических запасов Алексея Плуцер-Сарно ему пока далековато. Но для проф. В. Панченко сотоварищи хватит.
Комиссию по Загребельному в 1968 году возглавлял Константин Кухалашвили. В 1980-х я познакомлюсь и подружусь с его сыном, писателем, филологом Владимиром (1949—2006). У отца было много товарищей – писателей на Кавказе. Их книги с дарственными подписями стоят на стеллажах библиотеки Загребельного. Армянин Вардгес Петросян, грузин Нодар Думбадзе – я зачитывался его «Белыми флагами», – аварец Расул Гамзатов. Однажды отец расстроился, когда его большое и откровенное интервью без спросу обкромсали в московском журнале «Неделя». Без купюр интервью Загребельного напечатали в тбилисском литературном журнале.
«Пять лет назад здесь была одна довольно известная иностранка со своим еще более известным мужем, – в «Диве» Загребельный передает впечатления о своей встрече в 1961 году с французскими властителями дум Сартром и Симоной де Бовуар. – Отава, тогда еще доцент, показывал Софию, они кивали головами: «Да, да, о да, это действительно…» Кивали головами и на Крещатике, слушая о руинах и восстановлении, когда мы были голыми и босыми, голодными и холодными, но все-таки восстановили эту улицу во всей ее красе и пышности. Через некоторое время иностранка прислала Отаве свои двухтомные мемуары, заканчивавшиеся меланхолическим пассажем о тщетности человеческой опытности, о зыбкости всего прекрасного, которое ты собираешь в течение всей жизни, чтобы потом его утратить, поскольку все в конечном счете исчезает. Она писала: «Но то неповторимое накопление, все, чего достигла сама, со всей логикой и всей случайностью – пекинская опера, арены в Гульве, кандомбль в Байе, барханы в Эль-Узд, аллея Вабансия, рассветы Прованса, Кастро, выступающий перед пятьюстами тысячами кубинцев, серое небо над морем туч, багровая луна над Пиреем, красное солнце, поднимающееся над пустыней, Торчелло, Рим – все те вещи, о которых рассказывала, и все другие, о которых не говорила, – все это никогда, никогда не возобновится. Хотя бы, по крайней мере, добавило богатства земли, хотя бы дало начало…