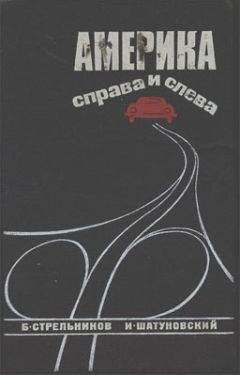Борис Никитин - Чайковский. Старое и новое
Вот что особенно раздражало Чайковского в музыке Брамса — маскировка музыкальных мыслей, призванных высказывать чувства до конца. Сам Чайковский никогда не маскировал свои прекрасные мелодии, не боялся и не стыдился высказываться до точки. Его темы и в симфониях и в произведениях малых форм всегда звучат рельефно, и мастерское использование сопровождающих голосов нигде не прячет эту рельефную красоту, а, напротив, поднимает ее на поверхность так, чтобы она была слышна, видна, понятна даже и не очень искушенному в музыке слушателю. Музыка должна быть "отголоском искренних движений души", — говорил Петр Ильич и всегда следовал этому правилу.
Музыка — язык универсальный, но даже и такая общность мышления всего человечества, как музыкальная, не может стереть граней между национальными особенностями, которые неизбежно находят отражение в искусстве. По крайней мере в обозримом будущем мы будем видеть немцев более педантичными, дисциплинированными, аккуратными в любой деятельности, французов — более экспансивными, с той симпатичной безответственностью, которая мила самим французам, но раздражает их немецких соседей, евреев — деловитыми, упорными в достижении своих целей, обладающих, как правило, неплохими музыкальными и математическими способностями. Но какие наиболее заметные черты можно обнаружить у русских? Среди многих положительных качеств нашего народа, о которых предостаточно сказано в родной литературе, здесь следует выделить одно, могущее в зависимости от обстоятельств быть и положительным и отрицательным, — это повышенная чувствительность и мечтательность. Мы особенно ясно наблюдаем эту черту у интеллигенции прошлого века, но в некоторой степени (и не только интеллигенцией) она унаследована и нынешними поколениями. От нее исходит доброта — русский человек добро знает и помнит, — но вместе с тем она порождает и людей настроения, способных быстро изменять свои мнения и по пустяшным, и по серьезным делам. Вечное стремление к чему-то большому, чтобы не сказать — великому, увлекает нас и отвлекает от простых занятий, требующих для своего добросовестного исполнения сосредоточения на мелочах. В результате многие из нас на разных этапах своей жизни ударяются в поиски ее смысла и тратят на это уйму времени, вместо того чтобы направить свою энергию на простые, будничные дела, столь необходимые всем нам.
Петр Ильич был в этом отношении типичным представителем русской интеллигенции. В нем жили полной силой все качества, присущие мечтателям, ищущим смысл жизни: он был человеком, остро воспринимающим все происходящее вокруг, человеком огромного душевного размаха.
Эти качества, попадая на благодатную почву таланта и воли, дают превосходные результаты, но беда мечтателям такого рода, не имеющим этой благодатной почвы! У Чайковского они попали в плодородную среду музыкальной гениальности, в которую он к тому же сам уверовал, и все типично русское, получив питание от накопленных остальным человечеством музыкальных познаний, проявилось в его произведениях. В рамках брамсовской учености ему было тесно. Его звали бескрайние просторы полей и лесов, весенние радости и осенняя грусть, теплота и нежность русской песни, простота и искренность народа, который выражал свои мысли далеко не всегда утонченно, зато определенно. У него появлялось раздражение от утонченности, существующей только ради самой утонченности. Чайковский был явно несправедлив в отношении Брамса, но это по меркам сегодняшних дней, а все, что он тогда чувствовал и писал, было совершенно искренне, потому что в самих принципах развития музыкальной мысли у Брамса Петр Ильич не видел того, что считал в музыке самым важным, — смелого, полного раскрытия своих чувств и завершения душевного порыва.
Брамс не был исключением в прохладном отношении Чайковского к некоторым знаменитым классикам. Вероятно, по тем же причинам ненамного лучшая участь постигла Иоганна Себастьяна Баха, вокальные произведения которого Петр Ильич назвал "истинно классической тоской", и пусть не вздрогнут поклонники величайшего мастера полифонии по прочтении следующего откровенного высказывания Чайковского в дневнике:
"Баха я охотно играю, ибо играть хорошую фугу занятно, но не признаю в нем (как это делают иные) великого гения"43.
Только "занятно". Более высокого балла Бах у Чайковского не удостоился, а Генделю и вовсе досталось нечто вроде двойки: "В нем даже занятности нет"44.
Не мог Петр Ильич кривить душой. Его истинно русской натуре было тесно в гостях даже у кантора Лейпцигского собора св. Фомы среди гениального контрапункта и спокойного созерцания божественной красоты звуков. Неуютно чувствовал он себя и в окружении чистого и гладкого симфонизма Брамса. Гений этих гигантов его не согррзал.
Свое недоверие к учености, не согретой душой, Чайковский высказывал также своему ученику Сергею Ивановичу Танееву, назвав его в несвойственной ему резкой и обидной форме "Бахом из окрестностей пожарного депо" (Танеев в то время проживал в Обуховском переулке около пожарного депо, расположенного на Пречистенке). Отвергнув идею закладки основного камня будущего величия русской музыки за счет бесчисленного множества контрапунктов, фуг и канонов на темы русских песен, Петр Ильич писал Танееву: "…музыканту, по моему крайнему разумению, следует избегать лукавых мудрствований, а делать так, как бог на душу кладет. Весь вопрос в том, много или мало он кладет на душу"45.
Отсюда еще яснее видны причины неприязни Чайковского к Брамсу, равнодушия к Баху и отеческой заботы о молодом Танееве, беспокойства о том, как бы этот обещающий талант не скатился к чистой учености и не выхолостил из русской музыки ее самое дорогое свойство — особую способность говорить языком человеческих чувств и высказываться до конца.
Брамсу не понравился финал Пятой симфонии Чайковского, который всегда вселял в нас силу и заставлял мечтать о подвигах. Может быть, Брамс почувствовал неприязнь Чайковского к его музыке — Петр Ильич высказывал такое предположение, — а возможно, он услышал в главной теме листовский мотив, и это усилило его прохладное отношение к этой музыке. В европейском музыковедении этот эпизод нашел отражение, и в ряде трудов (правда, не всегда со ссылкой на Брамса) можно обнаружить забавную критику финала Пятой симфонии, которая тоже помогает понять разницу между натурой западноевропейцев и русских. Причина все та же — широта души и глубина чувств русского человека не совсем понятны англичанину, немцу или даже французу. Английский музыковед Эдвин Эванс очень хорошо почувствовал что-то неладное в восприятии русской музыки, такой, как музыка Чайковского, и по-своему объяснил это. "В каждом славянине, — пишет он, — скрывается фаталист, и в сочетании с некоторой податливостью чувств, быстро проходящих через весь диапазон человеческих радостей и печалей, этот фатализм возбуждает в каждом истинно русском человеке моменты мрака и депрессии, которые мы, представители западного мира, можем понять лишь в малой степени"46. Безудержность в раскрытии своих чувств не симпатична западноевропейцу. Точно так же узкий практицизм западноевропейцев не симпатичен исконно русскому человеку. На Западе очень любят русскую музыку, однако нередко даже среди крупных музыкантов там можно услышать слова об излишнем разгуле чувств, о сентиментальности, типичной элегичности русского музыкального характера. Знаменитый пианист Артур Рубинштейн считал, например, что в произведениях Рахманинова нет благородства47. Можно ли правду человеческого чувства относить к недостатку благородства? Или Рубинштейн неблагородными считал выразительные средства Рахманинова? Вряд ли.