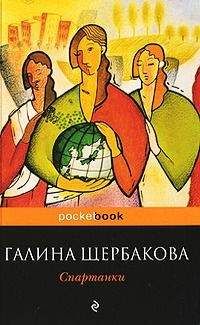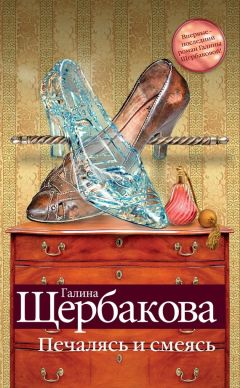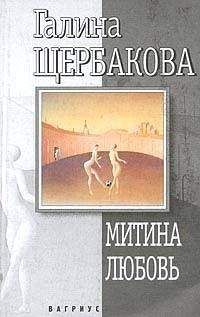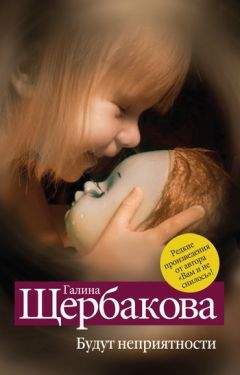Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой
Когда-то давно я прочитал, что за первые три года жизни в нас закладывается фундамент личности, основы будущих качеств и способностей. А дальше мы приобретаем только привычки. Время от времени это утверждение как-то тревожило меня, а часто вызывало сомнение – своей категоричностью. Пока я, слава богу, не наткнулся на некое успокаивающее положение: «Это совершенно не означает, что все предопределено, что личность раз и навсегда сформировалась, поскольку уроки жизни могут изменить человека».
Хочу сказать: у меня не было и нет сетований на мое раннее детство, как, впрочем, и на позднее, не говоря уже о «среднем». Но уверен, моя личность и ее качества определялись и другими, вполне осознаваемыми обстоятельствами. Более того, отчасти зависящими от меня самого. И, может быть, от неведомой мне воли провидения, но точно в иные, помимо дитячьего, возрастные промежутки.
Это было чрезвычайно важным и для меня, и для Галины – исповедовать веру в значимые перемены внутри себя. Она давала надежду избавления от самой потаенной и самой неустранимой разновидности комплекса неполноценности: догадки о незавершенности себя как личности с ворохом качественных пробелов и количественных упущений. Галина не раз пеняла и на себя самоё, и на условия складывавшейся жизни (причем иногда при общении не только со мной) за то, что запоздала, по ее мнению, с осознанной заботой о своем развитии – не о видимом наружно, а внутреннем, скрытом от глаз. «Какая смолоду была самодовольная дуреха». Так она говорила. А я понимал это ее «развитие» более, по-моему, точно – как самосовершенствование. Но это такая зараза, что, однажды явившись, пусть даже случайно, уже, как вирус ветрянки, не покинет твой организм. У творческого человека она может вызывать неожиданные мутации.
«А я дергаю ниточки по своим правилам, – рассказывала о своей работе Галина в одном интервью. – Поступки героев разыгрываются впервые здесь и сейчас. Никто не знал, что это – я. Я была свободна в творчестве и через своих героев освобождала себя. Прикрываясь ими, я одновременно наполняла их собой…Но происходила эволюция, внутреннее дорастание, потом во мне что-то сломалось. Мне гораздо интереснее стала я сама. И мне захотелось на страницах книг стать собой. Это работа без лонж, под куполом цирка. Можно и сорваться. Здесь есть риск самооткровения».
Как славно, что я не литературный критик. Иначе после этой цитаты был бы обязан привести примеры такой рисковой работы, коль скоро знаю их. А я знаю. Но я еще и разделяю сердитость поэта Екатерины Горбовской, написавшей: «…К сожалению, там, где Художник, там поблизости всегда найдется либо «биограф», либо досужий сплетник, либо и то и другое в одном лице. И в один прекрасный момент это оказавшееся рядом «и то и другое в одном лице» начинает сочинять истории, которые помещает в книги и называет «биографией Художника», потому что оно считает себя биографом и летописцем. Оно, это «и то и другое в одном лице», черпает свой «исторический материал» из тех литературных текстов, которые Художник сочиняет, и из тех эстрадных номеров, с которыми Художник выступает. И при этом оно никогда не дает себе труда не только задуматься о правдоподобности того, о чем пишет, но, хотя бы для очистки совести, как учили (при условии, что учили, конечно), проверить достоверность тех чудесностей, которые они на правах летописца заносят на скрижали истории и шаловливыми своими ручонками превращают в факт не только биографии своего героя, но и в факт биографии всех тех, кого это так или иначе касается» («Литературная Россия», № 44, 2013).
Так что я буду ссылаться в этой книге только на сочинения, когда автор сам не таит своей личной принадлежности к герою или не очень-то ее скрывает.
Дело еще и в том, что мы оба до конца земного существования не изжили чувство какой-то не очень почтенной ущербности, что ли. Оно берет начало, думаю, в нехитрых внешних обстоятельствах: захолустности завязки наших судеб, в образовании, прямо скажем, не блестящем. Нехватку чего-то в собственном наполнении мы ощутили, когда встали перед лицом Москвы – пространства, пригодного, в сущности, для неограниченного развития… в чем угодно. Да вот беда – время утекло.
Да, в Москве нам были доступны многие «культовые» спектакли, мы «варились» в котле всех книжных новинок с модными интеллигентскими специями в виде «Розы Мира» Д. Андреева, «Книги мертвых», Тейяра де Шардена и т. д. Выписывали, кроме московских и ленинградских литературных журналов, еще и «Неман», «Звезду Востока» (главным образом из-за Рекса Стаута, которого печатали в каждом номере), «Урал», «Радугу», «Таллин» – тогда все это было и по нашим средствам, и по возможностям советской почты (сколько бы – еще в те времена – ни поражался в «Литгазете» Анатолий Рубинов: почему она работает медленнее, чем при Льве Толстом?). Но… все одно: было ощущение, как у жвачных животных по отношению к сену: неспокойно им, пока загодя не забросишь внутрь толику припасов. Тридцать, а может, и пятьдесят томов классиков философии, накопившихся у нас, не столько просвещали, сколько усиливали настроение безнадеги: в жизнь не прочитать!
Однако читали. Я – по мере обнаруживавшейся при работе надобности. А Галина – бог знает почему. Могу сказать, что запомнил ее серьезный интерес (поскольку были разговоры о них) к Николаю Федорову, Кьеркегору, Дмитрию Панину с его теорией густот. Мне сегодня интересно было бы обнаружить между ними некую связь. Но уж теперь-то тем более на это не хватит времени.
Тогда, в конце пятидесятых, в пору «оттепели», его, казалось, было полно. Но не всегда и не во всем. В силу обстоятельств у нас обоих существование делилось на две жизни. Одна – совместная – двух влюбленных и одна – у каждого своя. Первая – тайная от окружающих, вторая – открытая миру. Иногда они пересекались в одной точке, и это было занятно. К примеру, мы не поставили друг друга в известность, что и я, и она собираемся пойти на концерт или в оперу. И неожиданно сталкивались там, я один или с кем-либо из редакции, она – с подругой, сестрой или целой компанией.
Однажды при такой встрече в филармоническом зале на гастроли московского (не помню какого) оркестра мы оба впервые услышали «Болеро» М. Равеля. Оно нас очень впечатлило. И в число наших внутренних позывных и паролей добавился еще один условный знак. Я на чем-нибудь выбивал пальцами такт «Болеро», а моя дорогая принимала и трактовала сигнал. Если неверно – я выстукивал следующий такт партии малого барабана. И уж тогда наверняка приходило полное взаимопонимание.
Я буду неискренним, если не скажу, что в то судьбоносное время (знаю-знаю: словосочетание не из той эпохи) я не испытывал в своих заснеженных краях той гражданственной страстности, которую позднее увидел в знаменитых художественных и документальных лентах. Нет, конечно, в Свердловске, в некотором роде полустоличном городе, было все как у людей. В УПИ (Уральском политехническом институте), вузовском флагмане региона, была знаменитая комсомольская конференция, где бузили умные парни физтеха с требованиями, чтобы комсомол стал самостоятельной организацией, со свободой слова, без засилья бюрократов, чтобы на любых выборах выбирали не из одного кандидата, а хотя бы из двух… Ну и еще какие-то такого же рода антисоветские, антисоциалистические, проамериканские штучки-дрючки.