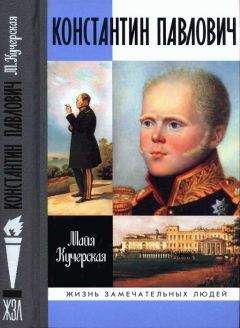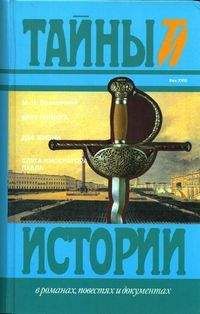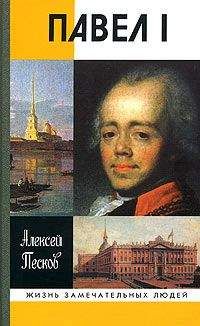Дмитрий Олейников - Николай I
Неприятностей было достаточно: мемуары будущих декабристов пестрят упоминаниями о том, что Николай был известен «грубостью обхождения с офицерами и жестокостью с солдатами»[92], хотя, занесшись, не забывал и извиниться («на другой день его высочество после ученья подошёл к нашему офицерскому кругу и слегка коснулся вчерашнего дня и слегка извинился»). Андрей Евгеньевич Розен передаёт ставшее хрестоматийным восклицание своего командира: «После ученья, изложив сделанные ошибки, <Николай Павлович> прибавил: "Господа офицеры, займитесь службою, а не философией: я философов терпеть не могу, я всех философов в чахотку вгоню!"». Однако и Розен признаёт, что ошибки офицеров были реальными, а не мнимыми: «Нам опять досталось после того, как полковник П.Я. Куприянов, по близорукости или забывчивости на батальонном ученье, удалив взводного офицера и не заметив, что за этим взводом замыкал подпоручик Белич, приказал командовать унтер-офицеру. Пошли объяснения, вызовы на поединок, но он… извинился вполне удовлетворительно, и дело кончилось посемейному, но не понравилось его высочеству»[93].
Наиболее нашумевшей стала история с гвардейским капитаном Василием Сергеевичем Норовым, явно из числа «решительно дурных» по николаевской классификации (и члена тайного общества будущих декабристов с 1818 года). Мемуары и дневники сохранили несколько версий, но все они сводятся примерно к следующей картине.
На одном из разводов Николай «был не в духе, остался всем недоволен, кричал на солдат и офицеров; погода была дождливая, и князь, топая ногою перед Норовым, в порыве гнева, забрызгал его… На следующий день великий князь узнал, что Норов подаёт в отставку; опасаясь заслужить от государя замечание за свою горячность, великий князь послал за Норовым и, убеждая его взять своё прошение обратно, сказал, между прочим:
— Если бы вы знали, как Наполеон иногда обращался со своими маршалами!
— Но, ваше высочество, я так же мало похож на маршала Франции, как вы на Наполеона, — отвечал Норов»[94].
Как пишет один из биографов будущего декабриста, «Норовым восхищались, история обрастала подробностями, о ней толковали в гостиных и на разгульных гусарских пирах». В некоторых рассказах Николай намеренно обрушивал своего коня в лужу перед гвардейским капитаном, чтобы окатить того «с головы до ног», в других кричал: «Я вас в бараний рог согну!», имея в виду «вас — тайных бунтовщиков», в третьих Норов немедленно вызывал великого князя на дуэль…[95] Николай жаловался Паскевичу: «Вы посудите, сколь я терплю от сего несчастного приключения: одно меня утешает, что я не виноват ни в чём»[96].
Как бы то ни было, в итоге Норов попал под арест, а потом за «непозволительный поступок против начальства» был «выписан из гвардии» в 18-й егерский полк. Через полтора года Норов был «всемилостивейше прощен», оставлен в армии, произведён в подполковники (как было положено бывшему капитану гвардии). Ещё через полтора Николай и Норов встретятся на допросе. Если верить мемуарам декабриста Завалишина, император воскликнет: «Я знал наперёд, что ты, разбойник, тут будешь!»[97]
Образ Николая Павловича-начальника будет не полон без рассмотрения его взаимоотношений со знаменитым в своё время профессором Константином Ивановичем Арсеньевым. В 1821 году этот известный своим либерализмом преподаватель будет вместе с несколькими коллегами изгнан из Санкт-Петербургского университета «пламенным консерватором» Дмитрием Павловичем Руничем, управляющим учебным округом. Тридцатидвухлетний Арсеньев был обвинён в «неверии», «зловредности», «нарушении нравственности», «призывах к революции» и «разглашении государственной тайны». Эта «университетская история» нашумела настолько, что дошла до Комитета министров. Николай же не только оставил Арсеньева преподавать в подведомственном ему Инженерном училище, но и успокоил при встрече: «Что с тобой, Арсеньев? За что на тебя такое гонение? Мы тебя знали чистым и честным. Будь спокоен, ты у нас останешься и ничего не потеряешь»[98]. Вскоре Арсеньев получил место профессора истории в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров — заведении, устроенном Николаем Павловичем. Рунича же Николай при встрече иронически «благодарил» за изгнание хорошего педагога, который теперь сможет посвятить всё своё время Инженерному училищу, и «просил выгнать из университета ещё несколько человек подобных, чтобы у себя с пользою употребить их на службу»[99].
Жизненная философия Николая того периода достаточно проста: безусловное и нелицемерное служение ради спокойствия и порядка. Он так и писал: «Я взираю на целую жизнь человека как на службу, ибо всякий из нас служит, многие, конечно, только страстям своим, а им-то и не должен служить солдат, даже своим наклонностям. Почему на всех языках говорится: богослужение? Это не случайность, а вещь, имеющая глубокое значение. Ибо человек обязан всецело, нелицемерно и безусловно служить своему Богу. Отправляет ли каждый свою только службу, выпадающую ему на долю — и везде царствуют спокойствие и порядок, и если бы было по-моему, то воистину не должно было бы быть в мире ни беспорядка, ни нетерпения никакой притязательности»[100].
Глава пятая.
МЕЖДУЦАРСТВИЕ
В служебных заботах и домашних радостях прошла для Николая первая половина 1820-х годов. Накануне 1825 года великий князь не ждал больших перемен в жизни, хотя в написанном тогда письме императору Александру I сквозила его неудовлетворённость сложившимся положением: «Несмотря на всю радость, которую я испытываю оттого, что нахожусь подле той, которая составляет счастье моей жизни, сознание моей бесполезности и отсутствие всяких служебных обязанностей составляют для меня предмет невыносимой муки; в особенности меня подавляет мысль, что я решительно не могу представить себе ясно продолжительности моей бездеятельности»[101].
А между тем «продолжительность бездеятельности» уже была отмерена. Почти два года, с лета 1823-го, лежали в четырёх надежных местах — в алтаре Успенского собора в Москве, в Государственном совете, Сенате и Синоде в Петербурге — запечатанные конверты, на которых было написано рукой самого императора: «В случае моей кончины открыть… прежде всякого другого действия»[102]. В конвертах хранился манифест об отречении Константина и переходе престола к Николаю Павловичу.
Завеса тайны была настолько плотной, что сам великий князь знал о существовании «какого-то акта отречения» только из иногда делаемых вскользь упоминаний матушки Марии Фёдоровны. По словам составлявшего манифест архиепископа Филарета, «как бы во гробе хранилась погребённой царская тайна».