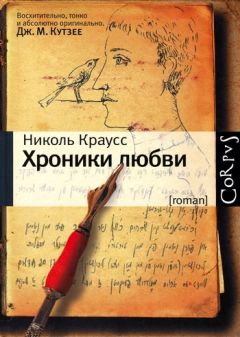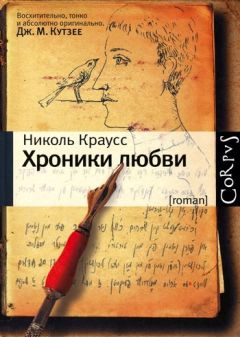Чарльз Буковски - Письма о письме
это грубо. мне нравится.
Потом люди мне говорят: «Ты зачем на бега ездишь? Зачем ты пьешь? Это уничтожение». Черт, ну да, это уничтожение. Как и пахать за $17 в неделю в Нью-Орлеане – уничтожение. Как и груды белых тел, старых лодыжек и берцовых костей, и говна, размазанного по простыням Общей окружной больницы Л.-А… мертвые ждут, чтобы умереть… старики сосут безумный воздух, где нет ничего, кроме стен и молчанья, и окружной могилки, что как мусорная яма, ждут. Они думают, мне начхать, думают, будто я не чувствую, потому что лица на мне больше нет, а глаза выколупнуты, и я стою с выпивкой, гляжу в скаковой бюллетень. Они же чувствуют эдак ПРИЯТНО, ебучки, мудачье, склизкие улыбчивые лимонососные говнометы, чувствуют они, еще бы, ПО-ПРАВИЛЬНОМУ, только правильного тут ничего не бывает, и они сами это знают… однажды ночью, однажды утром, а то и однажды днем, на автотрассе, последний рокот стекла и стали, и мочевого пузыря в розорастущем свете солнца. Пусть забирают свои плющ и спондеи и суют их себе в жопу… если там пока ничего нет.
Кроме того, грубым быть выгодно, дружок, еще как ВЫГОДНО. Когда все эти женщины, читавшие мою поэзию, стучатся ко мне в дверь, и я приглашаю их зайти и наливаю им выпить, и мы говорим о Брамсе или Коррингтоне, или о Сверке Гордоне, они все это время знают, ЧТО НЕИЗБЕЖНО ПРОИЗОЙДЕТ, и от этого беседа становится приятной
потому что уже скоро эта сволочь просто
подойдет и цапнет меня
и примется
потому что уж он-то повидал
он ГРУБ
И вот так, поскольку они этого ожидают, я это и делаю, и оно очень быстро убирает с пути множество барьеров и никчемной болтовни. Женщины – они как быки, дети, обезьяны. Хорошеньким мальчикам и толкователям вселенной тут ничего не светит. Они в итоге просто дрочат в чулане.
На работе есть один парень, он говорит: «Я им читаю Шекспира».
Он по-прежнему девственник. Они знают, что ему страшно. Ну, страшно-то всем, но мы ломим вперед.
[Марвину Мэлоуну]5 августа 1963 г.Вот, я поднялся к себе с тяжелым конвертом, думая, что ж, возм., они все по-прежнему там, это трудно, как гонять слонов по жидкой грязи, но я открыл его и обнаружил, что вы взяли ОДИННАДЦАТЬ, а это много, сколько б я вам ни посылал. Не особо знаю, какие оценки вы поставили остальным; я не залипаю на чтении своего барахла после того, как оно написано. Это как держаться за увядшие цветы. Говорят, Ли Бо сжигал свои и спускал по реке, но я так прикидываю, что в своем случае он был довольно недурным самокритиком и сжигал только плохие; затем, когда к нему пришел князь и попросил чего-то, он выбрал те, что получше, откуда-то поближе к пузу – вплоть до картины маньчжурской куклы с голубыми глазами. […]
Надеюсь, когда в город вернется ваш соредактор, ему будет неплохо… Писать – игра чертовски забавная. Отказ помогает, потому что заставляет писать лучше; прием помогает, потому что писать не бросаешь. Через 11 дней мне будет 43 года. Кажется, нормально писать поэзию в 23, но когда ты все еще туда кидаешься в 43, неизбежно надо прикидывать, не свихнулось ли у тебя что-то в голове, но и это нормально – еще покурить, еще выпить, еще одна женщина у тебя в постели, а тротуары по-прежнему на месте, и черви, и мухи, и солнце; и только мужское это дело, если он лучше будет возиться со стишком, чем вкладывать капитал в недвижимость, и одиннадцать стихотворений – это хорошо, рад, что вы столько нашли. Занавески машут, как флаг над моей страной, а пиво – большое.
1964
Благодарю за «Обездоленного», которого я теперь прочел, и он лежит справа от меня, пока я это печатаю, а я слушаю 6-ю симфонию Ч [айковского] и пью маленькое пиво; устал; сегодня ставил на скакунов на короткие дистанции, и там победа быстрая, или тлен, или точи ножи, все это очень уныло – но книга, книга, да, она прошла хорошо, и заинтересовало меня то, что в ней показано, как она главным образом для таких людей, как я и вы, и для тех, кого мы знали и знаем; как оно было и, с моей точки зрения, есть до сих пор. Быть бедным – ад, это не секрет; ад – болеть, когда нет денег, голодать, когда нет денег; ад быть больным и голодным вечно, до последнего дня. Богом забытые работы, за которые большинство нас вынуждено держаться; богом забытые работы, за которыми большинство нас вынуждено охотиться, о них умолять; богом забытые работы, которые мы ненавидим всем нашим усталым духом и все равно должны ими заниматься… боже мой, алкоголики, поэты, самоубийцы, наркоманы, безумцы, которых все это изблевывает! Я не понимаю, чего ради мы должны жить таким кошмарным, безотрадным и очевидно низким манером в век, когда цивилизация всей своей энергией измыслила силу, достаточную для того, чтобы всех нас убить. Думаю, если возможно уничтожить всю жизнь, то, ей-богу, так же возможно дать жизни полностью жить. И я не шучу – полностью: я не о том, чтобы давать лишь нашим миллионерам и государственным мужам возможность сбежать на какую-то планету после того, как они всё проебут здесь… Но я отвлекаюсь от вашей книги, и сейчас самое время, чтобы ее переиздать, потому что здесь все те же адские работы, то же сбагривание стариков, то же ощущение трудности, от которого безработный становится общественно ненужным без всяких оправданий, без голоса, без единого шанса. Я знаю про почти-невозможность выживания. Я работал за $17 в неделю в Луизиане, и меня уволили, когда я попросил прибавки на 2 доллара в неделю. Это было в 1941-м. Я работал на бойнях, мыл посуду; работал на фабрике дневного света; развешивал афиши в нью-йоркских подземках, драил товарные вагоны и мыл пассажирские поезда в депо; был складским рабочим, экспедитором, почтальоном, бродягой, служителем автозаправки, отвечал за кокосы на фабрике тортиков, водил грузовики, был десятником на оптовом книжном складе, переносил бутылки крови и жал резиновые шланги в Красном Кресте; играл в кости, ставил на лошадей, был безумцем, дураком, богом, всех уже и не упомню, но вот читал вашу книгу, и многое ко мне вернулось. Бывало, я записывался в железнодорожные бригады, чтобы ездить по стране. Однажды отправился так из Нью-Орлеана в Лос-Анджелес; в другой раз из Лос-Анджелеса в Сакраменто. Нам выдавали холодные банки еды, которые нам приходилось расколачивать о спинки сидений или другие места, потому что открывашек не было. Эти холодные поганые банки записывались нам на счет и вычитались у нас из первой получки плюс, кажется, дорожные расходы. Не знаю – я всегда спрыгивал, не доехав. Другие тоже. Но те, кто оставался, как я понимаю, потом довольно долго работали за просто так. У кого-то всегда отыскивались бутылка и пара игральных костей, и мы вынимали свои талоны на еду, как-то раз, их принимали в одном месте на Главной улице Л.-А., и напивались там пивом вместе с 6 или 7 другими, жали друг другу руки и расставались. Тьфу, я тут не про вашу книжку говорю, но хочу, чтоб вы знали – я ее по большей части понял, и еще раз спасибо за то, что вы мне ее прислали. Я не утверждаю, что вы Джек Лондон; я говорю, что вы Джек Конрой, а это годится.