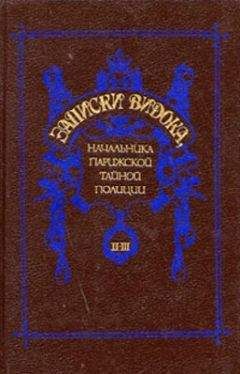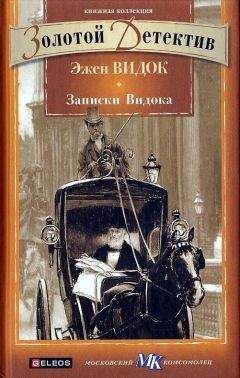Эжен-Франсуа Видок - Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. Том 1
Теперь выслушан меня хорошенько: до сих пор наши дела шли довольно хорошо; но все это может измениться с минуты на минуту. Мы уже встретили некоторых любопытных кригс-комиссаров, можем встретить не столь покорных, которые лишат нас пропитания и пошлют на службу при маленьком флоте в Тулон. Ты понимаешь… и достаточно. Самое счастливое, что может выпасть тебе на долю, это вступление опять в старый полк, рискуя быть расстрелянным как дезертир. Женившись, ты, напротив, обеспечиваешь свое существование и вдобавок можешь быть полезен друзьям. Так как мы коснулись этого пункта, то заключим условие. У твоей жены сто тысяч флоринов доходу; нас трое; каждому из нас ты назначишь тысячу талеров пенсии, получаемой вперед; да кроме того, я должен получить награду в тридцать тысяч франков за то, что сделал графа из сына булочника».
Я уже был покорен: эта речь, в которой генерал так ловко выставил все трудности моего положения, окончательно восторжествовала над моим сопротивлением, которое, признаюсь, было не из очень упорных. Я соглашаюсь на все, и мы отправляемся к баронессе. Граф В… падает к ее ногам. Сцена разыгрывается, и, чему трудно поверить, я так проникаюсь духом роли, что сам считаю правдой все говоренное, что, говорят, иногда случается с лгунами. Баронесса восхищена моими остротами и трогательными чувствами, внушаемыми положением. Генерал торжествует, видя мои успехи, и все остаются довольны. Иногда у меня то тут, то там вырываются некоторые восклицания, отчасти напоминающие кабак; но генерал постарался предупредить баронессу, что политические смуты значительно помешали моему образованию; она удовольствовалась этим объяснением. Маршал Сюше не был особенно взыскательным с тех пор, как Куаньяр, написавши «господину le duque (герцогу) д'Альбюфера», извинялся, что, будучи эмигрантом с весьма молодых лет, он знал французский язык весьма плохо.
Раз садимся мы за стол. Обед проходит наилучшим образом, а за десертом баронесса говорит мне на ухо: «Я знаю, мой друг, что состояние ваше в руках якобинцев; между тем родители ваши, живя в Гамбурге, могут находиться в затруднении; сделайте мне удовольствие переслать им вексель в три тысячи флоринов, которые мой банкир доставит вам завтра утром». Я рассыпался в благодарностях; она прервала меня и, выйдя из-за стола, прошла в гостиную, что дало мне возможность сообщить обо всем этом генералу. «Ах ты, простофиля, — сказал он. — Ты думаешь объявить мне новость?.. А не я ли шепнул баронессе, что твои родители могут иметь нужду в деньгах?.. В настоящую минуту эти родители — мы… Наши фонды уменьшаются, а если отважиться на что-либо преступное, чтобы их пополнить, это значит умышленно рисковать успехом нашего великого предприятия… Я беру на себя продажу векселя. Вместе с тем я внушил баронессе, что тебе необходимы деньги, чтобы до свадьбы выказать себя в надлежащем свете, и решено, что от нынешнего дня до дня церемонии ты будешь получать пятьсот флоринов в месяц». Действительно, на следующий день я нашел эту сумму на моем письменном столе, и, кроме того, серебряный вызолоченный туалет и несколько драгоценных безделушек. Между тем метрическое свидетельство графа В… имя которого я принял, не появлялось: генерал намеревался снять с него копию, равно как подделать другие бумаги. Баронесса, ослепление которой может показаться непостижимым для людей, не имеющих понятия, до каких пределов доходят иногда доверие и дерзость обманщиков, согласилась выйти за меня под именем Руссо. У меня были все необходимые для этого бумаги. Недоставало только благословения отца, которое весьма легко было получить с помощью Лаббре, бывшего под рукой; но хотя баронесса согласилась быть моей женой под вымышленным именем, все-таки она не захотела бы быть некоторым образом участницей в обмане, который уже не оправдывался необходимостью спасти мою голову. Во время наших совещаний по поводу этого, мы узнали, что наличный состав действующей армии до такой степени увеличился в завоеванной стране, что правительство, открывши наконец глаза, приняло строгие меры для ее обуздания. Поэтому мундиры были сняты, чтобы не быть узнанными, но преследования и поиски сделались столь энергичны, что генерал принужден был внезапно оставить город и отправиться в Намюр, где можно было быть менее на виду. Объясняя это неожиданное исчезновение баронессе, я сказал, что генерал был озабочен вследствие того, что принял меня на службу под вымышленной фамилией. Это повергло ее в сильное беспокойство обо мне самом, и я ее успокоил только отъездом в Бреду, куда она непременно желала ехать со мной.
Ко мне нейдет разыгрывать чувствительность, и я бы не заслуживал репутации тонкого человека, обладающего тактом, который мне вообще приписывают, если бы выставлял напоказ свои чувства и ощущения. Поэтому читатель может поверить мне, что такая преданность баронессы живо тронула меня. Во мне заговорил голос раскаяния, который не может быть вполне заглушен в девятнадцать лет. Я увидал пропасть, в которую влеку превосходную женщину, оказавшую мне столько великодушия. Я предвидел, что она вскоре оттолкнет с ужасом дезертира, бродягу, двоеженца, самозванца. Отдалившись от тех, кто вовлек меня в эту интригу и которые были арестованы в Намюре, я еще более утвердился в своем намерении и раз вечером, после ужина, приступил к объяснению. Не вдаваясь в подробности о своих приключениях, я сказал баронессе, что обстоятельства, которые мне невозможно было объяснять, вынудили меня появиться в Брюсселе под двумя именами, уже известными ей, но которые оба не принадлежали мне. Я добавил, что те же злосчастные обстоятельства заставляют меня оставить Нидерланды, не заключивши союза, который бы составил мое счастье, но что я навек сохраню воспоминание о ее благородстве и о всем, что она для меня сделала.
Я говорил долго, одушевленно, с жаром и легкостью, о которых сам не могу вспомнить без удивления. Я как бы страшился остановиться и услыхать ответ баронессы. Неподвижная, бледная, с пристальным взглядом, как у лунатика, она слушала, не прерывая меня. Затем, взглянувши на меня с ужасом, быстро встала и ушла в свою комнату. После того я не видал ее. Внезапно озаренная моим признанием, несколькими словами, которые могли у меня вырваться в минуту замешательства, она догадалась о грозившей ей опасности и в своей справедливой недоверчивости, может быть, сочла меня более виноватым, чем я был на самом деле. Может быть, думала она, что отдалась какому-нибудь страшному преступнику, быть может, обагренному кровью… С другой стороны, если сложность всей этой истории подделки и обмана не могла не навести ужас на баронессу, то добровольное признание, сделанное мною, должно было вместе с тем умерить ее беспокойство. Вероятно, последнее одержало верх, потому что на другой день, проснувшись, я получил шкатулку с пятнадцатью тысячами золотом, которые баронесса прислала мне, уезжая из города в час ночи. Я с удовольствием услыхал об этом отъезде, потому что присутствие ее тяготило меня. Так как ничто более не удерживало меня в Бреде, то через несколько часов я был по дороге в Амстердам.