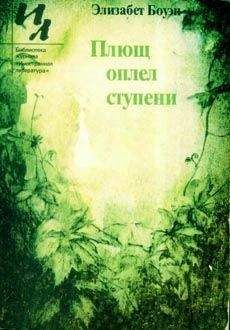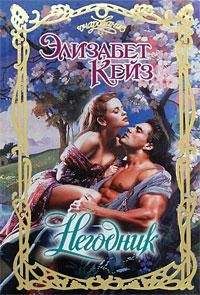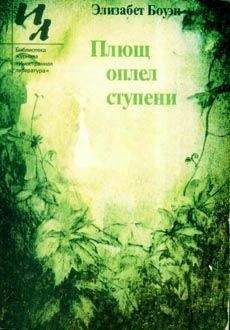Лидия Чуковская - Дневник – большое подспорье…
В палате их двое – он и контуженный, который всё время спит. Больничная тишина, продезинфицированная грязь, вежливое равнодушие персонала, больничное время – всё знакомое – мне показалось, что я не час, а месяц уже тут.
Чудо: у Ираклия, потолстевшего и постаревшего, по-прежнему веселые глаза. Я таких ни у кого давно не видала. Лесть его и приятна мне (см. Басни Крылова), и раздражает. О Лермонтове поговорили всласть[80]. Я рада: все письма, статьи, на которые он ссылался, мне известны. Мы понимали друг друга будто оба – старые лермонтоведы. Хочу, чтоб он прочел сценарий – а тот лежит у Ромма[81]. Интересные вещи рассказал мне Ираклий о Лафатере[82]: Лермонтов им очень был увлечен и внешность Печорина сделал по Лафатеру. Я спросила о последней дуэли: правительственное ли это убийство или нет? – Да, – сказал он, – но не из-за революционных стихов, а из-за Марии Николаевны[83] – и посоветовал перечесть одну строфу в «Сашке»… Сказал он еще, что Пушкин и Толстой всегда будут истинно любимы, потому что у них есть положительные герои, а Лермонтов и Гоголь – только признаваемы, потому что у них сплошное отрицание… Отговаривал вводить с Вернером декабристскую струю; без нее прозвучит сильнее. Самое хорошее было то, что о каком бы абзаце «Героя» мы не заговорили, он свободно знал его наизусть – я люблю, когда знают самый текст, а не домыслы; значит, любит. Он говорил, что биографию Пушкина сразу начали изучать умные и образованные люди – Анненков, Бартенев – а Лермонтову не повезло, его изучали сплошь дураки и пошляки. Таинственна роль в дуэли Столыпина. Мартынов был орудием Васильчикова и других. Он был сильно раздражен тем, что в Мери узнавали его сестру… «Единственную любовь» (к Лопухиной) Лермонтову приписали люди следующего поколения – потому что у Герцена, Чернышевского уже была в жизни единственная любовь. И на этот манер старались построить и биографию Лермонтова.
Нельзя понять, как этот развратный юнец мог написать «Я матерь Божия» – стихи, в которых он молится о возлюбленной, как мать о ребенке.
7/V. …утром прочла отчет об Освенциме и отравилась на весь день – нет, на жизнь.
Сколько сожженных Люшиных улыбок. Ямочек. Доброты.
И доброта может гореть, как полено.
Что делать с этими людьми? Убить? Пытать? Сжечь?
Но для этого надо построить новый Освенцим и создать палачей из ни в чем не повинных людей.
[Нижняя половина страницы оторвана. – Е. Ч.]…неповинные руки – никто. Без никто – кто не справился бы.
Но что сделать с кто?
И зачем нам жить и как нам жить.
«Ковать сердца поэзией» – да мало ли было поэзии.
12/V. До начала заседания Ромм рассказывал, что Райзман[84] рассказывает о Берлине. (Меня не позвал послушать! А мне так хотелось).
Он видел во дворе трупы детей и жены Геббельса. Тут же и сам Геббельс, но дети и жена опознаны поваром и камеристкой и многими другими, а Геббельс – не всеми. Они отравлены цианистым калием. Может ли быть, что Геббельс отравил детей и жену, чтобы убедить мир в своей смерти, а сам бежал? Вряд ли… Он видел труп Гитлера, который считают подложным. Очень похож и многие утверждают, что это он и есть, а другие говорят, что Гитлер перед взятием Берлина поседел, а этот черен. Кроме того, у этого синяк на носу и на лбу – не потому ли, что он не хотел отравляться, когда его принуждали?.. Райзман был при подписании капитуляции у Жукова. Жуков на этой церемонии заботился более всего о том, чтобы операторы успели всё снять. Для этого он делал большие паузы и продержал немца стоя минут пять, пока его не сняли; потом: «садитесь». Операторы били друг друга – Рима Кармен бил англичан и американцев штативом по голове – лягали генералов, заслоняющих свет, пересаживали подписывающих, как удобнее снимать.
18/V. С утра позвонила Райзману – и он проcил меня явиться через час.
Сух, точен, отчетлив, пружинист – как прежде – с той дозой сердечности, какая обязательна в общении с человеком, приходящим по делу – но не более.
Минут 10 рассказывал о своей поездке.
«Берлин – Вы видели Брюллова “Последний день Помпеи”? Вот он таков.
22 тысячи орудий совершали артиллерийскую подготовку. Этого нельзя себе вообразить.
Немцы вымотаны, измучены, голодны. Они не глядят на своих, на чужих – они, выйдя из подвалов, жадно глотают воздух.
В городе множество детей.
Город меняется день ото дня. Население кочует. Толпы людей, с детскими колясочками, заваленными скарбом, перебираются из одного подвала в другой. Нельзя понять, куда они едут. Но едут всё время.
С нами немцы учтивы до приторности. Если, проезжая, спросишь кого-нибудь одного, как проехать – целая толпа кидается объяснять.
Но и наглеют быстро. Мы занимали одну квартиру в особняке, а в соседнем жили хозяева. Убедившись, что мы ничего не станем грабить и портить, что мы подаем им руки, стучимся, прежде, чем войти и пр. – хозяйка стала врываться к нам каждую минуту, предупреждать, что это надо ставить туда, а то – сюда и требовать пищи.
Нет, симпатичных немцев я не видел. Может быть потому, что они еще слишком заморены.
Там было тепло. И как я удивлялся, когда видел, что из-под развалин уже тянутся к солнцу стебли и листики, и цветы».
1/VI. С утра я пошла в милицию – поставить штампы на вызов Марии Львовны[85].
С Фуркасовского эти вопросы переведены на Якиманку.
Жара; сотни людей толпятся в комнате, пытаясь проникнуть за таинственную дверь.
Никакого порядка. Инвалиды идут без очереди. Толпа женщин стоит на месте без движения – с 11 до 2.
Я все вглядываюсь в эти лица, вслушиваюсь в разговоры. Сердечный, смышленый, с юмором, хороший народ. Говорят они прелестно, умно, метко.
«На всякий чин – один сукин сын».
Суждения их о войне, о немцах, о больных мужьях – очень тонки, очень умны и благородны.
Но почему они не кричат, не воют, не бьют стекол, почему они покорно стоят дни – этого я понять не могу.
Они возмущаются тем, что им отказывают в их законных просьбах – но не тем, что нужно стоять – среди дня – в жаре и грязи. Если поговорить с ними, выяснится, что они, как девки в окошках, тоже убеждены, что без этого нельзя.
Я стояла с 11 до 4. У меня был с собой Чехов, но от злобы я читать не могла.
Наконец, девка-милиционер впустила меня и старушку.
Старушка плакала и рассказывала, что двух сыновей убили, и она просит разрешения ехать к дочери.