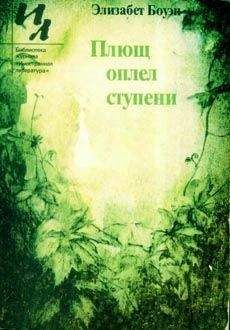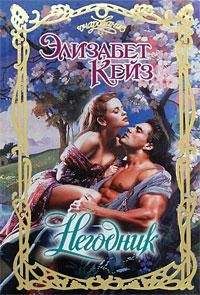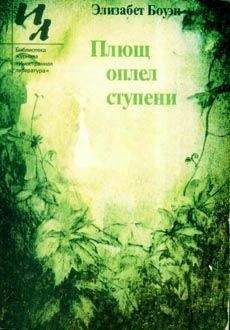Лидия Чуковская - Дневник – большое подспорье…
16/I 45. У Лели: Довженко, Шостакович, Тихонов, Симонов. Жены и – знаменитая Валя Серова. Невесело, неуютно, неискренне – как-то всё торопливо, без задушевности – но шумно, говорливо и после водки – оживленно. Интересен Довженко. Долго, опершись на рояль, очень умело и привычно, рассказывал о ведьмах на Украине, о каких-то женщинах в Киеве, у которых сами прыгали в квартире ножи и вилки, о колдуне, умевшем лечить сумасшедших. Говорит весьма художественно. Пожилая дама, выяснившаяся для меня постепенно, как ленинградская жена Тихонова, давала Довженке всякие фольклорные справки о ведьмах, бабах-ягах и «Трудах» с весьма ученым видом. И она, и Тихонов все время переходили на Ленинградские осадные темы. Тихонов – краснолицый, стальнозубый, помолодевший, упитанный, молодцеватый, с тремя орденскими ленточками – был со мной почему-то весьма приветлив, подливал вино, расспрашивал (конечно, не о Союзе) и пр. Глаза у него пустоватые. Он за чаем читал стихи Мадераса о Петефи[77] – военно-мальчишеские – читал тем же голосом, какой я помню у него еще в 1919 г., когда он читал и «Балладу о синем пакете». Мы вместе ехали в метро – он объяснял мне, какие мерзавцы финны.
Серова – знаменитая красавица! Либо я, либо мир слепы, потому что я не заметила никакой красоты, даже никакой смазливости. Такие «дамы», с простонародными толстоватыми лицами, с крашеными волосами, пачками ездят в трамваях. Она только одета лучше трамвайных – и я, посмотрев на затейливые туфли и дорогое черное платье, задумалась – откуда у такой неинтересной особы такой наряд. Ан это и есть – «Жди меня»… Симонов же оказался совершенно таким, каким я и ожидала его увидеть: хорошенький парикмахер, тенор, да еще слегка картавящий.
Я все смотрела на Шостаковича. Студент; моложав; чуть мешковат. Лицо очень неопределенное. Он сидел молча и даже как-то робко. Только в обрезе щек, если глядеть на него в профиль есть что-то волевое, да в сутулости – но это уж если очень выискивать. Выпив водки, он стал показывать фокусы с зажженной спичкой во рту… Ушел рано. Жена его мне понравилась – живое, веселое, доброе лицо.
Леля быстр опьянел, очень пожимал мне руку, был полон дружеских чувств и всем объяснял, что я замечательная.
На улице было мягко, снежно, прелестно.
23/I 45. …пролежала двое суток за чтением Бирюкова о Толстом. Множество мыслей рождает этот трогательный и мужественный путь. Я не могу быть христианкой. Я думаю, что ненавидеть Мишкевича[78] и уметь оберечь от него Зою и Митю, Шуру и С. Я. – это достоинство. Не всякого ближнего надо любить, тут долженствование не подходит, тут воля не при чем. Единственный веский довод против насилия, который меня всегда убеждает наповал, это вот какой: противление злу злом пробовалось много раз и всегда приводило к злу. Значит, как способ оно не годится. Но что же годится. Непротивление насилием? В это я не верю. Душу спасешь, но мир – нет. Толстой очень зло издевается над постоянно приводимым примером: «что вы сделаете, если при вас разбойники нападут на ребенка?» Он говорит, что этого никогда не бывает и что этот пример выдуман для оправдания насилия… Но нам ли не знать, что это бывает! И ему ли было не знать! Разбойники отняли детей у Хилкова. Толстой написал письмо их бабушке (для которой отняли) и потом царю. Детей не вернули и, как пишет Бирюков, они «погибли физически и нравственно». Быть может правильнее было бы стрелять в отнимающих? Если бы стреляли отец и мать – они оказались бы слабее жандармов – значит, ни к чему стрельба – если же создать организацию, которая будет сильнее – но где порука, что она, в свою очередь, не начнет отнимать детей?.. Но человек, стреляющий в жандарма, отнимающий у него дитя, мне привлекательнее, чем человек ожидающий молча или умоляющий… И отвратительна мне натяжка в любви. Толстой пишет бабушке Хилковой «с чувством доброжелательства и уважения». Да почему, собственно? Он сам признается, что ровно ничего о ней не знает; ему известно только, что она с помощью жандармов похитила детей – откуда же доброжелательство и уважение?
Но сам Толстой, мужественный труженик мысли, как он велик и умилителен! Как надо целовать его руки!
Я совсем не умею думать, и у меня нет философской никакой подготовки. Но думаю я вот что. Оба решения очевидно неверны, как всё, что упрощает мир. Найти надо поэтическое, т. е. самое сложное решение изо всех возможных, самое жизненное, самое антиабстрактное, анти теоретическое. Толстой есть великое словечко одно: «стройте свою жизнь, как художественное произведение». Да, да, как роман нужно решать мир, а не как статью – и тогда, может быть, в нем найдут свое место и танк, и слово.
13/III 45. Всё больше думаю о том, что красота спасет мир. Когда-то эта фраза Достоевского поразила меня своей бессмыслицей. Я бы теперь заменила красоту – поэзией, т. е. сложностью. Простота – реакционна и мертва; жизненно только поэтическое, т. е. сложное.
10/IV 45. …я устроила себе 2 удовольствия: во-первых, вымылась, а во-вторых, повезла сценарий Тусе… Что-то она скажет?
Говорили о зле. Я сказала ей, что не вижу нового качества в зле нового времени. Все тираны всех времен и народов всегда делали столько зла, сколько могли; но они были технически слабы и могли не многое. Инквизиторы не лучше палачей Майданека, а только слабее их: что такое жалкий костер, по сравнению с печью крематория? Быть может, Николай I истребил бы раскольников, как фашисты евреев, но у него не было на это сил: автоматов, извести, экскаваторов, роющих рвы… У него не было газет и радио, долбящих в голову обывателя каждый день одно и то же. Что остановит, что прервет эту цепь зла? Толстой думал: простить убийц. Но я не верю. Простить палачей Майданека – простить предателей, которые в Белоруссии и Украине выдавали немцам евреев? Не уничтожать их? Этого нельзя, это гадко – хоть я и понимаю, что истребить их – не плодотворно, что из этого вырастет новое зло. Если бы можно было не убить, но убить словом, осудить, произнести приговор, назвать преступление – а потом пусть живет псом…
6/V. К 5 ч. поехала к Ираклию[79] в госпиталь.
В палате их двое – он и контуженный, который всё время спит. Больничная тишина, продезинфицированная грязь, вежливое равнодушие персонала, больничное время – всё знакомое – мне показалось, что я не час, а месяц уже тут.