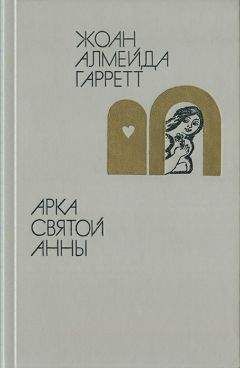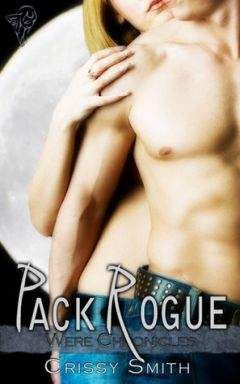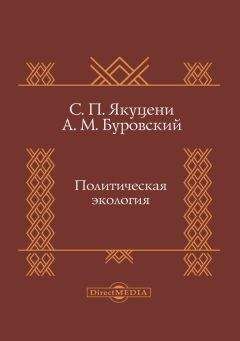Софья Пилявская - Грустная книга
В конике марта делегация выехала из Москвы и в начале апреля прибыла в Геную. Мой отец заведовал секретариатом делегации.
Об огромном значении для нашего государства этой конференции и о ее блестящих результатах написано немало. Известно также, что выступление на первом заседании конференции Чичерина на безукоризненном французском языке поразило членов европейских делегаций, очевидно, не ожидавших встретить среди посланцев нашей страны таких людей.
Помню рассказ отца о том, как, живя в «Палаццо Империал» в местечке Санта-Маргерита неподалеку от Генуи, они заслушивались, когда поздними вечерами Георгий Васильевич подолгу играл Моцарта — своего любимого композитора. Уже тогда Чичерин страдал тяжелой формой диабета, а работа была безмерно ответственной, и так он отдыхал, а может быть, готовился к следующему трудному дню…
В двадцатых числах мая 1922 года делегация вернулась в Москву.
Несколько лет работы моего отца в Наркоминделе, наверно, были для него самыми значительными. Тогда еще был жив Ленин. Работа связывала его и с такими выдающимися деятелями, как Л. Б. Красин, В. В. Воровский, М. М. Литвинов, А. Д. Цюрупа, Я. Рудзутак, не говоря уже о А. С. Енукидзе, Н. Н. Крестинском, Г. М. Кржижановском…
Всех этих людей Анатолий Васильевич Луначарский называл «маршалами Ильича».
В сентябре 1922 года Константин Сергеевич Станиславский с Художественным театром уехал на два года на гастроли по Европе и Америке. В его отсутствие Оперную студию вели его помощники — педагоги и певцы Большого театра.
Событие, запомнившееся на всю жизнь, произошло в 1922 году.
Начало года. Зима. Объявлен парадный концерт в Большом зале консерватории. Весь сбор от концерта шел в пользу беспризорников, во множестве мелькавших по Москве. Спали они обычно в котлах, где днем варили асфальт. Они были небезопасны, отличались необыкновенным проворством и отвагой.
К 1922 году Москва была уже прибрана, улицы асфальтировались. А ведь в первые годы после Октября зимой на улицах наметались огромные сугробы, в которые с заборов и с невысоких крыш соскакивали «попрыгунчики», иногда те же беспризорники, а то и просто бандиты. Маскировались они в белые простыни или занавески, к их валенкам или сапогам прикреплялись пружины, а иной раз они появлялись из-за угла на ходулях. Встреча с таким «привидением» наводила ужас на прохожих, и, раздев и отобрав все ценное, «попрыгунчики» скакали дальше. А уж рассказы о них были один страшнее другого. Вечерами даже взрослые в одиночку ходили неохотно.
В 1922 году — откуда что взялось? — уже открылись магазины с нарядными витринами, ночные рестораны, роскошные кафе, появились извозчики на «дутиках» или в санях с медвежьей полостью… На Петровке во всю длину дома развернулась вывеска «Дрова! Лучшие на всем свете дрова! — Я. Рацер». Казалось, что бойкая торговля шла во всех закоулках Москвы. А уж об Охотном ряде и говорить нечего. С угла Театральной площади и почти до Иверской часовни сплошные ряды: мясо, дичь, рыба, молочные поросята, а около этих богатств прохаживались сытые, в белых передниках, с длинными ножами мясники и рыбники. Прибаутки, остроты, зазывание покупателей. Ну прямо как в пьесах Островского! А на противоположной стороне лавки Головкина и других знатных купцов-поставщиков: грибы всех сортов и видов, всяческие маринады и соленья, зелень, овощи, фрукты…
Цены, конечно, были бешеные, и обыкновенные люди могли только смотреть издали на эту роскошь.
А по другую сторону Иверской, почти вплоть до Александровского сада и здания Манежа, стояли деревянные дома и домишки, а на их фасадах красовались большие вывески: «Пух», «Перо», «Яйца».
Вокруг Иверской часовни, где горели неугасимые лампады и множество свечей, кроме молящихся была толпа продающих, меняющих и покупающих всякую мелочь — словом, «толкучка».
На Никитской, угол Кисловки, где в то время еще действовал Никитский монастырь, была нэповская булочная-кондитерская. По воскресеньям мама давала брату драгоценный червонец (эти червонцы старались не менять, так как курс их не был твердым), и мы с братом шли за красивой и вкусной большой плюшкой, стараясь не смотреть на другие кондитерские чудеса.
На Арбатской площади, на месте нынешнего круглого метро и дальше, вглубь, до церкви Бориса и Глеба, тянулся Арбатский рынок. Там было все — роскошное, свежее, красивое, но, конечно, недоступное. На этом рынке нэпманы часто стояли целыми семьями, а по вечерам кутили под цыганское пение в саду «Эрмитаж», в ресторанах. И еще они «уважали» оперетту.
Тверская вся была в частных магазинах — «что угодно для души»: великолепная обувь от «Братьев Зелениных», шляпы, ткани всех видов, цветы, всяческая галантерея, розовые шелковые чулки — мечта всех тогдашних девиц, французская парфюмерия…
Так вот в этом двадцать втором году был анонсирован по высоким ценам благотворительный концерт с участием Шаляпина, Неждановой, Собинова, Петрова, Гельцер, Смольцова и других знаменитостей того времени.
Начинаться концерт должен был с выступления сводного детского хора, для которого из многих школ отобрали по десять детей. Мы с Таней Богданович оказались счастливыми — нас взяли: меня на второй голос, а Таню — на первый. Руководил хором и учил нас петь дивные старинные русские песни хормейстер Крынкин. В ту пору эта фамилия была очень известна. Отец Крынкина держал на Воробьевых горах знаменитый до революции ресторан, говорили, что ресторан был знаменит и старинными русскими песнями.
Наш хормейстер был очень строг, мы его боялись до ужаса; дирижировал он на спевках своей толстой тростью — суковатой палкой. Помню, как он бесчисленное количество раз заставлял нас повторять конец песни «От ворот поворот виден по снегу» и добился-таки нужного звучания. Песня кончалась как бы единым тихим вздохом. И еще мы пели «Плывет лебедушка» и «Поздно вечером сидела, все лучинушка горела».
Нам было приказано, как угодно, но быть в белых платьях и таких же туфлях. Уж не помню, из чего мама смастерила мне этот концертный туалет.
На генеральной репетиции Крынкин все еще дирижировал тростью. На концерте он потряс нас фраком и дирижерской палочкой.
Мы с Таней упросили ее отца, который тоже был участником концерта, разрешить нам остаться за органом, где все было слышно и даже чуть видно в щелку.
Особенно запомнился мне Шаляпин. Он и сейчас как живой стоит перед глазами. Что делалось в зале, когда его объявили! Он пел «Элегию» Массне, «Гренадеров» и на бис — «Дубинушку». Провожали его стоя, бесконечными криками «бис» и сокрушительным громом аплодисментов.