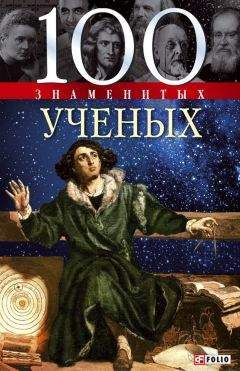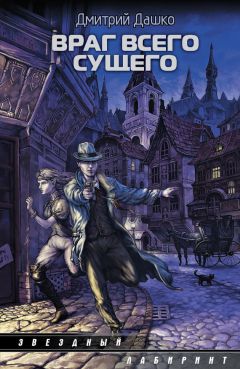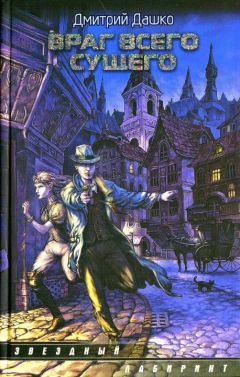Вадим Андреев - Детство
Вскоре после отъезда Михаила Семеновича я открыл новый мир — чердачная вселенная с голубиной музыкой уже не удовлетворяла меня.
Я начал просыпаться раньше всех — даже на кухне еще стояла тишина, кухарка еще не гремела посудой — и в бледных, медленных сумерках зимнего утра пробирался в отцовский кабинет. Здесь все еще было полно отцом: в пепельницах венчиком лежали недокуренные папиросы с длинными, картонными мундштуками, стоял недопитый стакан коричнево-черного чая и лежала на блюдце зеленым комком наполовину обгрызенная фисташковая конфета — отец пил чай вприкуску, привычка, оставшаяся у него со времен студенческой нищеты.
Этот голодный период жизни отца носил у нас название «крейзмановщины», по имени владельца грязных и вонючих номеров Крейзмана, у которого ютилось самое бедное студенчество Москвы. Вероятно, с этого же времени, с эпохи нищеты, когда вся семья из восьми человек жила на пятнадцатирублевый заработок дяди Всеволода — он служил в каком-то государственном учреждении, а отец без толку скитался по Москве в поисках грошовых уроков, — у отца и определилась, выкристаллизовалась его любовь к бабушке: никто не верил в него, он сам потерял веру в себя и только бабушка непоколебимо, твердо, спокойно была убеждена в том, что он — замечательный, необыкновенный, лучший из всех мыслимых сыновей, единственный, кто сможет вывести семью из страшного тупика нищеты.
Я путешествовал по кабинету, останавливался около большого дубового стола, где на выдвижной доске стояла пишущая машинка с неоконченной рукописью и прочитывал недописанную страницу. Помню, однажды я прочел:
«Все мое внимание захватило море — мне показалось, что оно именно является источником великой печали, что лежала над людьми и местом этим. Оно было…»
Потом, позже, когда я прочел эти слова в рассказе «Он», я обрадовался им, как будто они были родными.
Продолжая мое путешествие по кабинету, я осматривал каждый угол, отмечал каждую мелочь. Как на новые я смотрел на рисунки отца углем — копии Гойи, разглядывал знакомые фигуры чертей и крылатых чудовищ, затем, разложив по местам на отцовском письменном столе карандаши и ручки, садился на несколько минут перед пишущей машинкой и, наконец, взяв первую попавшуюся книжку, раскрывал ее посередине и, забравшись с ногами на маленький библиотечный диван, принимался читать.
На улице продолжался медленный рассвет, с каждой минутой все ярче и отчетливей вырисовывались в исчезавшем сумраке знакомые предметы — большие островерхие кресла, многоугольный письменный стол, начинали поблескивать отраженным светом глянцевитые кафели камина и печей, на зеркальных заиндевелых окнах проступали цветы и тропические снежные пальмы, вдалеке начинался шум, заглушенный двойными рамами, — ржала лошадь, ругался по-фински наш дворник Микко, глухо урчала в полузамерзших трубах вода, а я, подсознательно воспринимая звуки пробуждающейся жизни, продолжал читать, наслаждаясь тем, что я в кабинете отца один, пока появление Андрея, в мягких войлочных туфлях, в белых перчатках и белом переднике, с метелкой для пыли из разноцветных, радужных перьев под мышкой, не спугивало меня. Тогда, вдруг почувствовав, что руки и ноги у меня почти окоченели — я путешествовал по кабинету обыкновенно босиком, в ночной рубашке, — отправлялся согреваться к себе в комнату, в постель.
Эти утренние странствия по кабинету в поисках тени отца очень полюбились мне. Я чувствовал, что в воздухе, где еще жили его мысли, что в лабораторной мгле, где рождались образы его книг, в нежной и строгой сумеречной тишине кабинета, где таились звуки его голоса, в каждом предмете, который трогала несколько часов тому назад его рука, во всем, к чему он был близок только что кончившейся ночью, я как бы встречался с ним один на один, без посторонних свидетелей, что в эти минуты никто и ничто не может нарушить нашу незримую близость. И, теряя чувство одиночества, с которым я сжился в годы моего детства, я начинал понимать, что наша разлука с отцом временна, что рано или поздно уже не с тенью, не в полунебытии, а в реальной и твердой человеческой жизни я с ним соединюсь и на этот раз уже неразрывно и что нам обоим будет казаться странным и непонятным то время, когда мы были далеки друг от друга.
8
Последние книжные призраки, которыми я населил мой чердачный мир, были герои романов Диккенса. Домби-отец сменялся Эдвином Друдом, потом появились Пикквик, Оливер Твист, Николай Никльби, Дэвид Копперфилд и Крошка Доррит. Прочитав всего Диккенса — от первого до последнего тома, я начал его перечитывать. Иногда в чердачном сумраке призраки книг сменялись другими призраками. Они насыщались голубиною музыкой, превращались в звуки, приобретали странный и отчетливый облик: все чаще и чаще я начинал писать стихи, борясь с отсутствием рифм, радостно подчиняясь воле для меня одного ясного ритма. Я не помню ни одного стихотворения целиком: в памяти, как на поверхности моря после гибели корабля, остались лишь разрозненные бурею обломки:
Победа, победа! о Жанна д’Арк!
Сегодняшний день — солнечно ярк.
И следы другого кораблекрушения:
За мною гнались сторожа,
От них я скрывался, дрожа.
Я видел сквозь ветер и мрак,
Что красный разорван флаг.
Чтение Диккенса и писание стихов заполняли мою жизнь. Сменявшие Михаила Семеновича новые учителя не задерживались надолго в нашем доме. После двух лет ига начался период анархической свободы. В кабинете для меня были открыты все книжные шкафы, я руководствовался исключительно своим выбором и в том, что, споткнувшись на Анне Карениной, я увлекся приключениями капитана Немо и несчастиями Неточки Незвановой, была своя закономерность — все вредное для моего десятилетнего возраста было для меня скучным.
Долго моя анархическая свобода продолжаться не могла: наступало время ученья. В те годы отец жил безвыездно на Черной речке, нужно было найти подходящую семью в Петербурге, которой можно было бы меня доверить. После некоторых колебаний выбор отца остановился на семье профессора Михаила Андреевича Рейснера.
С Рейснерами отец познакомился года за два перед тем, когда они проводили лето на Черной речке, неподалеку от нас.
В то время в газетах много шума наделало новое разоблачение Бурцева сперва сторонкой, потом под инициалами, Бурцев обвинял некоего профессора в том, что он служит в охранке. Наконец была объявлена в печати и полная фамилия нового провокатора — профессор международного права Томского университета Михаил Андреевич Рейснер. Черный ореол азефовщины, слава лучшего революционного сыщика, в те годы еще окружала Бурцева, и его обвинение, несмотря на полную несостоятельность, произвело на левую общественность очень большое впечатление. Рейснеров стали избегать, бывшие друзья не кланялись им на улице, происходили скандалы на лекциях. Соблазн действительно был велик: профессор Томского университета — охранник, это давало такую пищу сплетням, какую не каждый день можно было выдумать. Михаилу Андреевичу пришлось оставить профессорство в Томском университете и перевестись в Петербург, в Психоневрологический институт. В это тяжелое для Рейснеров время, когда Михаил Андреевич был накануне самоубийства, отец первый заехал к нему познакомиться — он считал обвинение Бурцева не только необоснованным, но и преступным. Так началось это знакомство, впрочем никогда не переходившее в дружбу.