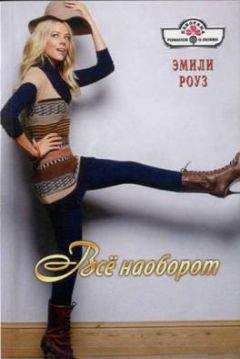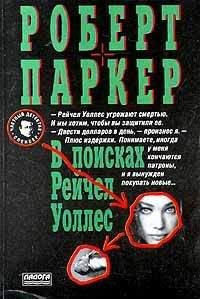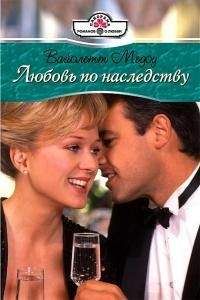Коллектив авторов - Как мы пережили войну. Народные истории
Мама рассказывала мне (уже взрослому), что однажды, в самом начале зимы, может быть в конце ноября – начале декабря, когда она еще была на ногах, пошла на продуктовый рынок, чтобы выменять на вещи каких-нибудь продуктов. Звучит это дико, но (особенно в начале зимы) такой рынок существовал – за золото, бриллианты и иные ценные вещи можно было выменять хлеб и другие продукты. Не знаю, что такое ценное понесла она в тот раз на рынок, ибо жили мы небогато, но ей удалось выменять кусок холодца (мы говорили «студень»). Когда же дома она стала его делить на части, то нашла в нем ноготь с человеческого пальца. «Студень» она выкинула. Позднее она узнала, что делали этот «студень» из мяса более-менее упитанных людей (военных), которых для этого специально убивали… или вырезали мягкие места у мертвецов…
…Помню, как мама, положив на стол три кусочка хлеба, резала каждый из них на три части и говорила: «Это – завтрак, это – обед, это – ужин». Кусочки и так маленькие, а когда их делили на три части, то становились совсем крошечными. Мама учила нас с братом, что хлеб нельзя откусывать, его надо отщипывать по крошке, класть в рот и не глотать сразу, а сосать. Теперь я думаю, что ей казалось, будто так мы испытаем ощущение сытости. Завтрак, обед и ужин происходили в строго определенное время, ожидание которого, наверное, и составляло смысл всей моей детской жизни. От этой привычки – отщипывать кусочки и класть их в рот, а не откусывать хлеб – я не мог отвыкнуть очень долго, многие годы. Да и сейчас, по-моему, не избавился до конца. Иногда, когда у меня в руках хлеб, и я вдруг о чем-то глубоко задумываюсь и ловлю себя на том, что я отщипываю махонькие кусочки, механически кладу их в рот и сосу… Большинство моих воспоминаний связано с хлебом, взрывами, смертью.
Мой однокашник Севка Гильдин, со слов своей мамы рассказывал, как один мужчина выхватил хлеб у молодой, но обессилевшей женщины и начал его жевать, жадно поглощая на глазах у всех, но никто не был в силах сопротивляться. На следующий день его труп обнаружили недалеко от места преступления.
Еще Севка рассказывал историю, в правдивости которой я нисколько не сомневался: «Помню, как человек, который жил в смежной с нами квартире, однажды начал стучать нам в стенку и страшным голосом кричать: „Дайте хлеба! Дайте хлеба! Дайте хлеба!..“ Я и Ирина, моя сестра, громко плакали. Мама тихим голосом пыталась успокоить нас и плакала сама. Человек кричал долго. Сначала громко, потом все тише, тише… На следующий день мама зашла в эту комнату. Человек был мертв… Помню, как потом (через сколько дней, не знаю) этого покойника выносили из дома, а я почему-то оказался у выхода. Было холодно. Труп бросили в грузовик и увезли. Я теперь из литературы знаю, что это было обычное дело: ленинградцы вымирали целыми семьями и лежали какое-то время в холодных квартирах. Я все время просил: „Хеба, хеба“ (букву „л“ тогда не выговаривал). Конечно, чуть-чуть поддерживало питание в садике. В основном каши давали. Очень запомнилась „блокадная каша“ – из цветков клевера. Мама, держа батон в руках, вышла со мной из булочной. И кто-то у нас вырвал этот батон, а я, помню, разревелся на всю улицу“». Много такого рода историй я слышал и от других моих сверстников.
Главным лакомством для нас тогда стала баланда из крапивы. На улицах лежали замерзшие трупы людей.
Случаи каннибализма были обычным делом в ту пору Некоторые родители съедали своих детей. Моя тетя рассказала моей маме, уже после войны, что ее соседка вырезала мягкие места умершей дочки, варила и ела суп, приговаривая, что это очень вкусно.
Мой ровесник и тоже житель блокадного Ленинграда рассказал, что его мама, уходя на работу, наставляла: дверь никому не открывать, к окну не подходить, так как жили они на первом этаже, а над нами жила женщина, которая заморозила в сарае свою умершую мать и по частям ее ела, потом варила суп на керосинке и ела.
К бомбежкам, обстрелам привыкли и в укрытия перестали спускаться, а к голоду нет. Мама рассказывала, что мы ПРЕВРАТИЛИСЬ В ЖИВЫЕ СКЕЛЕТЫ.
Весной мать собирала молодые побеги сосны, варила нам отвары, и благодаря этому мы смогли избежать цинги. Все лето ушло на подготовку к зиме. Вспоминаю, как мы сидим за столом и глазами следим за руками мамы, ждем похлебки. Затем мама сушила, что-то еще делала, нюхала и говорила: «Вот отличный табак». Этот табак на базаре у нее расходился быстро, а нам взамен доставалась или кое-какая одежда, или питание. С каждым днем есть хотелось все сильнее. В организме накапливался голод. Мать потом вспоминала – несмотря на голод, мы никогда не просили кушать, видимо понимая, что это ничего не изменит. От голода люди становились дистрофиками или опухали. От голода, я помню, мать наша опухла, была еле живая, от дистрофии она не могла ходить, к тому же страдала от цинги. Слава богу, ее спас наш дядя, который находился в Ленинграде на казарменном положении, – изредка ему удавалось добраться до нас, он приносил нам кое-что съестное. Мой дядя, тогда молодой, вынужден был вылавливать в речке ракушек, из которых варилась похлебка. Возможно, она тогда и спасла мою маму от голодной смерти, но дядя поранил при ловле этих ракушек ногу, получил заражение крови и остался на всю жизнь инвалидом. Мама водила меня в очаг (наименование воспитательного учреждения для детей дошкольного возраста: детский очаг, детский сад, ясли в СССР в 30-е годы XX в. – Авт.), а вечером забирала обратно. Я запомнил очаг, наверное, потому, что отрыв от дома, от мамы стал для меня, как для всякого малыша, глубоким потрясением. До этого я был домашним ребенком. На всю жизнь я запомнил запах очага: смесь запахов чистого детского дыхания, детских тел и постельного белья с запахам кухни. В сущности такой же, как запах детского сада, в который мы, став взрослыми, отводили потом наших детей – Рому и Сашу. Только «наш» запах был очень холодным.
Я помню: однажды в очаге нас усадили обедать. Точно помню, что на столах стояли блюдечки с налитым в них тонюсеньким слоем подсолнечного (мама всегда говорила «постное») масла, а рядом лежал кусочек хлеба. Такой обед бывал уже не раз. Мне очень нравился запах постного масла, нравилось макать хлеб в масло и есть… Непередаваемое наслаждение, от которого кружилась голова… Мы еще только рассаживались по местам, как взревела сирена: «Воздушная тревога!..» Нас стали быстро-быстро уводить в бомбоубежище. Но я куда-то спрятался. И как только все ушли, подбежал к столу, буквально проглотил свой хлеб, выпил масло, вылизал блюдце, схватил чей-то кусочек хлеба и бросился бежать. Запомнилось, как меня тащили в подвал за руку, как мы там сидели, прижавшись друг к другу от страха. Иногда нас выстраивали в шеренгу и давали по ложечке сгущенного молока, но это случалось очень редко. До сих пор помню, как я ждал эту ложечку…