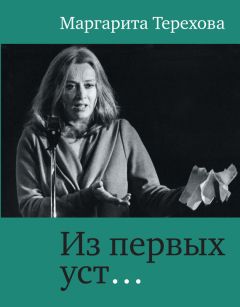Мария Дегтярева - Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Жизнь и подвиг православных христиан. Россия. XX век
Второе сделала как-то в одном из интервью Великая княгиня Ольга Александровна: «Все эти критические годы Романовы, которые могли бы быть прочнейшей поддержкой трона, не были достойны звания или традиций семьи. Слишком много нас, Романовых, погрязло в мире эгоизма, где мало здравого смысла, не исключая бесконечные удовлетворения личных желаний и амбиций… Но кто из них заботился о впечатлении, которое они производили? Никто…»[44]
Государь не чувствовал поддержки не только со стороны думских партий, занимавших неконструктивную позицию в отношении высшей государственной власти, но и со стороны династии. После убийства П. А. Столыпина его не покидало чувство политического одиночества. (После отречения в откровенном разговоре с матерью Николай Александрович говорил о том, что Столыпин никогда не допустил бы того, что сделали те, кого он приблизил к себе во время войны.)
И все это – на фоне падения авторитета семьи Романовых в военное время. В те годы, по свидетельству одного из современников, отношение либеральной общественности к Александре Федоровне незаметно приобрело характер «массовой истерии». Тональность нараставших как снежный ком обвинений в прогерманских симпатиях была настолько нетерпимой, что вызвала сожаление у посла Франции в Петрограде Мориса Палеолога: «Несчастная женщина не заслужила этих обвинений, о которых она знала и которые очень расстраивали ее»; «Ее образование, воспитание и интеллектуальное и моральное развитие происходили под влиянием английского духа… Основа ее характера была целиком и полностью русской. Несмотря на эти ужасные россказни, которые ходят вокруг ее имени, я ни на минуту не сомневаюсь в ее патриотизме. Она страстно любила Россию».[45]
По убеждению Пьера Жильяра (швейцарца по происхождению, который много лет прожил в Царской семье, совмещая обязанности преподавателя французского языка у детей и воспитателя Цесаревича Алексея), тот факт, что Государыня была немецкой принцессой, весьма умело использовался не только левыми, но и правительством Германии в спланированной кампании по дискредитации Царского дома. Он сам стал однажды свидетелем любопытного эпизода. Беседуя как-то с одним молодым офицером, монархистом по убеждениям, Жильяр узнал о том, что в госпитале, где тот лечился, некто, якобы по распоряжению Царицы, доставлял подарки и деньги пленным немецким офицерам, однако никогда не заходил в палаты, где лежали русские военные. Было начато расследование, полностью подтвердившее рассказ, но оказалось невозможно найти человека, который с помощью подложных документов заставил официальных лиц поверить в то, что он прибыл по распоряжению Александры Федоровны.[46]
Принимая во внимание контекст, решение об отречении едва ли возможно рассматривать как шаг «сиюминутный», проявление слабости. В определенном смысле он был «хорошо подготовлен» и вполне закономерен. Другой вопрос: действительно ли начавшаяся революция была народной? В сущности, Жильяр был прав: волнения носили «очаговый», локальный характер, состав участников был еще довольно узок, однако 15 марта решающим стало то, что Царь поверил в изъявление воли народа.
С этим, по-видимому, и связан столь разительный контраст между поведением Царя в революционной ситуации 1905 года и в марте 1917 года. Двенадцать лет назад, уверенный в спланированном характере волнений и видя в них угрозу общественной стабильности, Николай Александрович, как глава государства, без колебаний отдает приказ о наведении порядка в столице и в губерниях, охваченных беспорядками. В 1917 году, принимая во внимание преобладающее настроение интеллигенции, думских партий, штаба, отступает перед «народом».
Мотивы, которыми руководствовался при этом Государь, ясны. В своих воспоминаниях Жильяр неоднократно упоминает о том, что возможность подавления волнений в Петрограде была исключена для Николая Романова в силу опасности спровоцировать гражданскую войну, которая дестабилизировала бы положение на фронте и привела бы к поражению России в войне. По существу, единственной причиной отречения Царя оказалась надежда на то, что люди, желавшие избавиться от него, при сохранении стабильности внутри государства смогут довести войну до победного конца. Он пожертвовал своей властью ради победы и верности союзническим обязательствам.
С точки зрения личной характеристики Романовых весьма ценно и свидетельство воспитателя Цесаревича о том, как воспринял известие об отречении отца Алексей. Было решено, что Жильяр сообщит печальную новость своему подопечному. Выслушав все и не очень понимая суть происшедшего, мальчик задал вопрос: «Но если не будет Царя, то кто же будет править Россией?» «Ни слова о себе. Ни единого намека на свои права как наследника престола…»[47] – замечает Жильяр.
Итак, исход событий, по мнению Пьера Жильяра, определили не «желание страны» и не «недостаток политической воли у Николая II», а присущее Царю обостренное чувство долга, внутреннее благородство и… «эффект ближайшего окружения». Царя смогли убедить, будто его отречение «отвечает общественным ожиданиям и окажется лучшим из возможных для страны шагов в системе стабилизации». День, когда был составлен текст Манифеста об отречении, Николай Александрович закончил записью в своем дневнике: «Кругом измена, трусость и обман!»
Швейцарец одним из первых подметил парадокс русской революции: «Антанта сделала ошибку, полагая, что движение, начавшееся в феврале 1917 года, носило народный характер. Ничего подобного – в нем участвовали только правящие классы. Народные массы были в стороне от всего этого. Неверно считать, что народный взрыв привел к свержению монархии. Напротив, падение монархии вызвало ту огромную волну, которая захлестнула Россию и чуть не затопила соседние страны».[48]
Завещание Царя
Лишенные под арестом возможности каким-либо образом участвовать в политических событиях, Романовы продолжали следить за новостями, оставаясь патриотами России. Двойная «узурпация», поражения на фронте, приход к власти радикалов, невыгодные и унизительные условия Брестского мира были предметом постоянных разговоров в тесном кругу Царской семьи и ее спутников.
Надежды на освобождение из-под ареста «хорошими верными людьми» сменялись разочарованием. Тем большим утешением была поддержка со стороны немногих истинных друзей, чья любовь покрывала все ошибки и неудачи.
Патриарх Тихон сострадал царственным узникам. Не имея возможности помочь и добиться их освобождения, он молился. Через епископа Гермогена Патриарх передал Царской семье большую просфору и свое благословение.
В Тобольске Романовым было позволено изредка посещать церковные службы и принимать у себя священника. Каким бы тяжелым ни было по временам состояние здоровья Александры Федоровны, она не прекращала занятий с детьми. Священное Писание, Закон Божий, жития святых, поучения, объяснение молитв составляли содержание домашних уроков. Духовные предметы чередовались с общими, образовательными; обязанности учителей делили между собой родители, Жильяр, Анастасия Гендрикова и доктор Боткин.
Среди неоправданных строгостей со стороны властей и неудобств члены Царской семьи радовались малому: редким прогулкам под надзором, солнцу, наступлению весны. Вечерами читали вслух по очереди; в Тобольске, в губернаторском доме звучали Шуберт, Григ, Бетховен, Шопен.
Поклонный крест в урочище Ганина Яма на месте уничтожения останков Царской семьи
Долгие месяцы в заключении, постоянный страх за мужа и детей вызвали перемену во внутреннем состоянии Александры Федоровны. Она потеряла обычную прямую осанку, выглядела намного старше своих лет. Ей было нелегко, но она, по ее собственным словам, «была благодарна за все, что имела». «Всех своих дорогих Богу отдала и Святой Божией Матери. Она всех покрывает Своим омофором».[49] Образцом поведения для нее был Государь: «Он был просто удивителен. Такая кротость, несмотря на все ужасные страдания за страну. Настоящее чудо».[50]
Последние месяцы жизни Романовым пришлось особенно тяжело: обострение болезни Алексея, ожидание «суда» над Государем, лишения и изощренные издевательства со стороны охраны в доме Ипатьева, не упускавшей случая унизить беззащитных людей, разлука с частью верных спутников и изоляция до самой роковой ночи на 17 июля. Но это не могло нарушить внутренней связи между членами семьи и отнять «дух мирен», который дает терпеливое перенесение скорбей с верой во Христа. Своеобразным завещанием Царя стали слова, переданные на волю Великой княжной Ольгой Николаевной: «Отец просит передать всем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».[51]