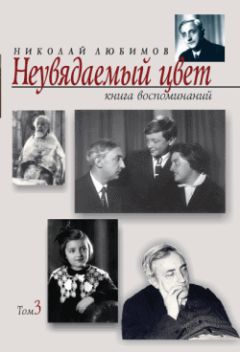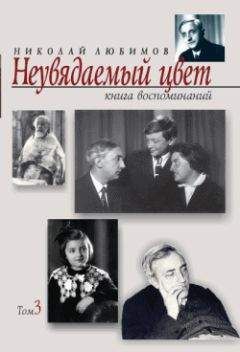Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 2
В первой же записке, подтверждая, что все получила сполна, мать спросила про внучку: «Жива ли Аленочка?»
Всякая радость нечаянна…
Вернувшись откуда-то домой, я застаю незнакомую, тоненькую девушку с вздернутым носиком. Это была медсестра из Бутырской тюремной больницы. Она принесла от мамы письмо, рассказала, что мать заболела в Краснопресненской пересыльной тюрьме дизентерией и ее положили в Бутырскую тюремную больницу.
С этого дня девушка стала нашей письмоноской. Через нее мы дополнительно посылали маме кое-что из еды.
Вновь в нашей с матерью жизни встала Бутырская тюремная больница, только теперь там не я, а она.
Медсестренка делала для нас благое дело бескорыстно. У нас не было дорогих вещей, лишних продуктов, которыми мы могли бы ее приманивать. Я только дарил ей книги, некоторые давал почитать.
Осенью она пришла к нам с дурной вестью: в связи с напряженным положением на фронте многих заключенных, в том числе – выздоровевших, но еще не выписанных из больницы, отправляют в дальние лагеря. Мать снова в пересыльной тюрьме.
Моя жена потратила два дня, чтобы передать маме продукты и теплые вещи. Потом мать писала, что на этапе вещи ее спасли.
Медсестренка вскоре исчезла. До сих пор не возьму в толк – почему. Думаю, что из тогда еще отличавшей русское простонародье деликатности: мавр сделал свое дело и должен уйти сам. А между тем она была нам очень нужна – просто как друг.
Если она, паче чаяния, скончалась, то да дарует ей Господь блаженное упокоение, а если жива, то да удолголетствит Он ее жизнь, и да пошлет Он ей много радостных дней за те радостные в самой своей печали дни, какие я пережил благодаря ей во второй половине 42-го года!..
История повторяется не целиком.
Из Бутырской тюремной больницы я вышел на волю. Мою мать перегнали оттуда в пересыльную тюрьму.
След ее затерялся вновь…
Всякая радость нечаянна…
Седьмое января 1943 года. Первый день Рождества. Утро. В комнате холод собачий. Мы с годовалой дочерью вдвоем. Звонок. Вставать неохота. Под одеялом кое-как угрелся. Опять звонок, продолжительный. Встаю. Что-то на себя накидываю. Почтальонша. Доплатное письмецо-«треугольничек» от моей матери из Тайшета Иркутской области. Доехала, жива, по инвалидности на легкой работе, чинит белье.
7 января 1952 года я писал матери в Калугу уже на волю:
Сегодня получил твое письмо… Невольно вспомнилось, как именно в этот день я получил от тебя письмо в 43-м году» и почувствовал, что умирать мне еще рано.
Переписка у нас с матерью установилась более или менее постоянная. Продуктов и вещевых посылок не принимали. Деньги я высылал ежемесячно. (Кажется, разрешалось посылать не более пятидесяти рублей.) Тяжко было писать с оглядкой на двойную цензуру – военную и лагерную. Тяжко было получать треугольнички с обратным адресом: п/я ЛВТ 215/22. Но то были жалившие мелочи. Я боялся, что мать умрет в лагере от истощения.
Ранней весной 44-го года по совету адвоката Николая Адриановича Сильверсвана, с которым я познакомился у Маргариты Николаевны и который после войны был арестован и погиб в концлагере, я начал хлопоты по пересмотру дела моей матери. На взгляд Николая Адриановича, в связи с нашими успехами на фронте моя мать могла рассчитывать на благоприятный исход дела.
Я послал ей в Тайшет несколько чистых листов бумаги с просьбой поставить свою подпись внизу. К моему удивлению, лагерное начальство пропустило эти листы с подписью. На полученных обратно листах я напечатал несколько экземпляров продиктованного мне Сильверсваном прошения от имени матери на имя Калинина о пересмотре ее дела. Мотивировалось прошение, прежде всего, тем, что единственный ее обвинитель свел с ней личные счеты, во-вторых, тем, что во время оккупации она штатной должности не занимала, что ее отношения с немцами сводились к просьбам за русских людей и, наконец, тем, что за плечами у нее 40 лет беспорочной службы. С этим прошением я пошел в приемную Калинина. Принял у меня прошение косоглазый тип, явно «оттуда», с такой кислой миной, что я сказал себе: «Прошение дальше секретариата не дойдет, и это еще в лучшем случае».
Всякая радость нечаянна…
Летом 44-го года получаю от матери телеграмму из Тайшета:
Еду на пересуждение.
След моей матери затерялся вновь. Четвертого мая 1946 года мать писала мне:
Последнее мое письмо тебе я написала 21-го июня 1944 г., а 23/VI я покинула Тайшет по вызову в Тулу. Дорогой тяжело заболела малярией, в Свердловске меня положили в больницу. Слегка оправившись, я поехала в Тулу, но вновь заболела, настолько серьезно, что в больнице тульской пролежала 3 месяца. Из Тайшета я послала тебе телеграмму, в которой сообщала, что уезжаю, и просила не писать мне и не посылать книги и деньги до сообщения нового адреса. Из Тулы меня перевели в Калужскую область и в калужской тюрьме я пробыла с 15/Х-44 г. до 21/IV-46-ro года. Как я переживала невозможность узнать о здоровье твоем и твоей семьи – ты можешь себе представить.
Мать впоследствии говорила мне» что в Туле к ней отнеслись благожелательно, но, на ее несчастье, Калугу снова сделали областным центром, и дело матери передали туда. В Калуге следователь попался злобный. В 42-м году безжалостность приговора была объяснима: неподалеку идут бои, исход войны неясен, арестованных уйма, разбираться некогда. И все-таки трибунал войск НКВД понял, что моя мать не изменница родины. И на том спасибо. А теперь времени было достаточно, обстановка в Калуге и во всей стране изменилась. Победа была видна явственно. А желание следствия опорочить мою мать усилилось. Особенно много стараний приложило к тому Перемышльское управление НКВД. Рыльце у него было в пушку. После смерти моей тетки оно присвоило все вещи, принадлежавшие и тетке и матери, раскрало книги, на которых стояло мое имя. Так, например, четырехтомник Есенина с березкой на обложке схватила себе жена начальника НКВД. «Все расхищено, предано, продано…» В случае, если б мою мать освободили, пришлось бы как-то выкручиваться.
Прозоровский в качестве свидетеля ни на следствии, ни на суде не фигурировал, – в прошении на имя Калинина Сильверсван смазал его лихо. Подобрали новых «свидетелей». Что-то вякнула квартирная хозяйка матери, которая кое-какие наши вещи подтибрила себе, в частности, сумела доказать, что теткин зеркальный шкаф принадлежит ей и стоит у квартирантов только потому, что у нее тесно. Что-то чернящее мою мать показал на следствии, не явившись однако, на суд, некто Смирнов, племянник которого – полицай – был то ли расстрелян, то ли погиб в штрафной роте, а свояченица, мать полицая, сослана в Сибирь. Главным «свидетелем» со стороны обвинения выступил перемышлянин Евстигнеев. Перед войной он сидел по какому-то уголовному делу. При немцах играл довольно видную роль. Но потом его почему-то не тронули.