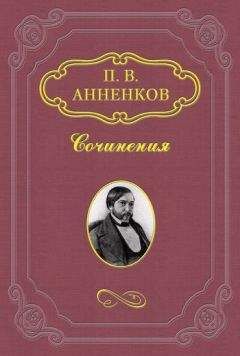Павел Анненков - Материалы для биографии А. С. Пушкина
248
См. Приложение VII к «Материалам»{849}
249
«Религиозные гармонии» (франц.). – Ред.
250
Пушкин еще продолжает в отрывке разбор сочинений Альфреда де Мюссе: «Итальянские и испанские сказки Мюссе отличаются живостию необыкновенной. Из них «Portia» («Порция» (франц.). – Ред.), кажется, имеет более всего достоинства: сцена ночного свидания, картина ревнивца, поседевшего вдруг, разговор двух любовников на море – всё это прелесть. Драматический очерк «Les marrons du feu» («Каштаны с жару» (франц.). – Ред.) обещает Франции романтического трагика. А в повести «Mardoche» («Мардош» (франц.). – Ред.) Musset, первый из французских поэтов, умел схватить тон Байрона в его шуточных произведениях, что вовсе не шутка. Если мы будем понимать слова Горация «Difficile est proprié communia dicere» («Трудно хорошо выразить общие вещи» (лат.). – Ред.), как понял их английский поэт в эпиграфе к «Дон Жуану»{850}, то мы согласимся с его мнением: трудно прилично выражать обыкновенные предметы. «Communia» значит не обыкновенные предметы, но общие всем. (Дело идет о предметах трагических, всем известных, общих, в противоположность предметам вымышленным)»… Таким образом известный стих Горация в его послании к Пизону («Ars poet» («Искусство поэзии» (лат.). – Ред.) выражает, по мнению Пушкина, не то, чтобы тяжело было говорить о маловажных предметах, а мысль, что тяжело говорить о предметах общеизвестных.
Кстати уже изложить здесь мнение поэта о современных писателях Франции вообще. С 1831 года становится в нем заметно нерасположение к представителям ее поэтической деятельности. «Всем известно, – пишет он около этого времени в виде программы для статьи, – что французы народ самый антипоэтический. Славнейшие представители сего остроумного и положительного народа – Монтань, Монтескье, Вольтер – доказали это. Монтань, путешествовавший по Италии, не упоминает ни о Микель-Анджело, ни о Рафаэле; Монтескье смеется над Гомером; Вольтер, кроме Расина и Горация, кажется, не понял ни одного поэта… Если обратим внимание на критические результаты, обращающиеся в народе и принятые за литературные аксиомы, то мы изумимся их бедности…»{851} По статье Пушкина «О Мильтоне» мы уже знаем его мнение о Викторе Гюго и об Альфреде де Виньи. Вот что писал он о Ламартине: «Ламартин скучнее Юнга и не имеет его глубины. Не знаю, признались ли они в тощем однообразии, в вялой бесцветности своего Ламартина, но тому лет 10 его ставили наравне с Байроном и Шекспиром»{852}. Всего замечательнее, что Пушкин не признавал поэтом и Беранже, по причине весьма характеристической. Он ставил в упрек веселому и остроумному песеннику, произведения которого ценил ниже «прелестных шалостей Коле», особенно то обстоятельство, что «не имеет ничего страстного, вдохновенного»{853}. Присутствие этих качеств было так важно в глазах Пушкина, что, предполагая их в Делорме, он считал произведение С<ент>-Бева чуть ли не самым замечательным явлением во французской литературе после сочинений Мюссе{854}. Черта, много объясняющая и самого Пушкина как писателя. Кстати сказать, «Литературная газета» 1830 и 1831 года заключает две статьи, подписанные буквою «Р», какой были подписаны впоследствии «Скупой рыцарь» Пушкина и «Пиковая дама». Первая статья есть разбор «Истории русского народа» г. Полевого («Литер<атурная> газ<ета>», 1830, № 4). Вторая есть рецензия произведений С<ент>-Бева» Vie, poésies et pensées de Delorme» («Жизнь, стихотворения и мысли Делорма» (франц.). – Ред.) и «Les Consolations» («Утешения» (франц.). – Ред.) («Литер<атурная> газ<ета>», 1831, № 32). Мы не приписываем их Пушкину, не имея для этого никаких данных, но находим в них сходство с его образом мыслей{855}.
251
В «Кавказском пленнике», в первом издании, находим стих:
Остановлял он долго взор
На отдаленные громады,
который заменен был впоследствии таким:
Вперял он неподвижный взор etc.
В стихотворении «Буря» попался странный стих «И ветер воил и летал», исправленный потом так: «И ветер бился и летал». В примечаниях к «Полтаве» была совершенно неправильная фраза: «Мазепа сватал свою крестницу, но был отказан». Посмертное издание исправило вторую половину фразы так: «но ему отказали», а первую оставило по-прежнему. При появлении сцены летописца из «Бориса Годунова» в «Московском вестнике» 1827 г. в ней был стих «Он говорил игумену и братье». Этот стих изменен Пушкиным в 1831 г., при полном издании хроники, в следующий: «Он говорил игумну и всей братье». Кстати об ошибках. Самая странная была сделана «Современником» 1837 года при передаче «Медного всадника». В примечаниях к нему у Пушкина было сказано, что описание памятника Петру Великому заимствовано было одним польским поэтом из Рубана. «Современник» 1837 г. напечатал: «из Рыбака», что не имело смысла. Так перешло и в посмертное издание сочинений Пушкина
252
Нелишним будет упомянуть здесь, что заметка о II томе «Истории русского народа» г. Полевого{856}, приведенная нами выше, написана тоже осенью 1830 года в Болдине
253
Оба отрывка эти извлечены из переписки Пушкина с М.П. Погодиным, о которой уже было говорено. Вот в дополнение к ним еще третий, где восторг Пушкина после чтения «Марфы» доходит до необыкновенных размеров: «Я было опять к вам попытался; доехал до первого карантина, но на заставе смотритель протурил назад в Болдино. Как быть! В утешение нашел я ваше письмо и «Марфу» и прочел ее два раза духом. Ура!.. Я было, признаюсь, боялся, чтоб первое впечатление не ослабело потом; но нет – я все-таки при том же мнении: «Марфа» имеет европейское, высокое достоинство. Я разберу ее как можно пространнее. Это будет для меня изучение и наслаждение. Одна беда – слог и язык. Вы неправильны до бесконечности. Ошибок грамматических, противных духу его, усечений, сокращений – тьма. Но знаете ли? И это беда не беда. Языку нашему надобно дать воли более. Разумеется, сообразно с духом его. И мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность. Не посылаю вам замечаний… Покамест скажу вам, что антидраматическим показалось мне только одно место: разговор Борецкого с Иоанном. Иоанн не сохраняет величия (не в образе речи, но в отношении к предателю). Борецкий (хотя и новгородец) с ним слишком запанибрата; так торговаться мог бы он разве с боярином Иоанна, а не с ним самим… Вы принуждены были даже заставить его изъясняться слогом, несколько надутым. Вот главная критика моя… О слоге упомяну я вкратце… Для вас же пришлю я подробную критику надстрочную… Что за прелесть сцена послов! Как вы поняли русскую дипломатику! А вече? А Посадник? А князь Шуйский? А князья удельные? Я вам говорю, что это все достоинства Шекспировского»{857}.