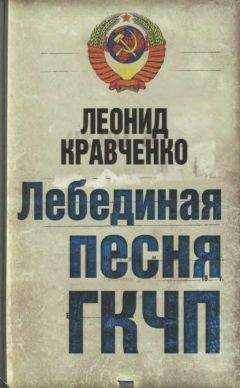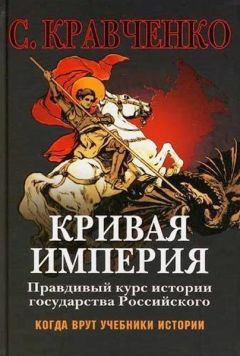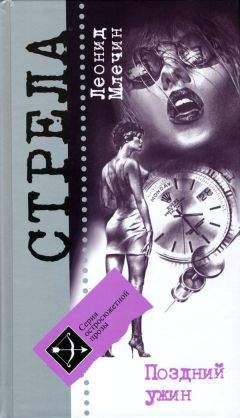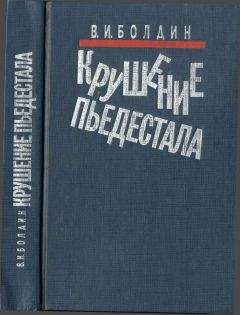Сергей Пинаев - Максимилиан Волошин, или себя забывший бог
Волошин не боится открытой конфронтации с правительством. В середине октября он официально обращается к военному министру Д. С. Шуваеву, отказываясь «быть солдатом, как европеец, как художник, как поэт», и выражает готовность понести за это любое наказание. «Тот, кто убеждён, что лучше быть убитым, чем убивать… не может быть солдатом», — пишет он министру. «Я преклоняюсь перед святостью жертв, гибнущих на войне, — и в то же время считаю, что для меня, от которого не скрыт её космический моральный смысл, участие в ней было бы преступлением. Я знаю, что своим отказом от военной службы в военное время я совершаю тяжкое и сурово караемое преступление, но я совершаю его в здравом уме и твёрдой памяти, готовый принять все его последствия».
В конце октября Волошин подвергся в Феодосии медицинскому осмотру и получил предписание на обследование в Керченском военном госпитале. Ожидание «лазарета» срывает «рабочее настроение» — жалуется поэт Ю. Оболенской. Но сидеть сложа руки он не умеет. 29 октября Волошин выступает на публичном заседании Литературно-художественного общества (ЛХО, в дальнейшем — «Киммерика»), в гимназии Гергилевич, с лекцией «Жестокость в жизни и ужасное в искусстве». Под свои прежние наблюдения он подводит мощную философско-художественную базу, ссылаясь на A. Шопенгауэра, Ф. Достоевского, Л. Толстого, В. Гаршина, Вл. Соловьёва, Л. Андреева, М. Арцыбашева. 7 ноября там же художник выступает с лекцией о В. Сурикове.
10 ноября Волошин выезжает из Феодосии в Керчь и ложится в госпиталь на обследование. Через несколько дней его признают негодным для военной службы «из-за невладения правой рукой». 16 ноября Волошин возвращается в Феодосию и выступает с лекцией (всё там же) «Отцеубийство в античном и христианском мире». 25 ноября, получив в Уездном воинском присутствии бессрочное свидетельство об освобождении от воинской повинности, читает лекцию «Истоки современного искусства» с упором на историю и теорию импрессионизма.
1916 год начинался и заканчивался смертью великих художников — кисти и слова, сыгравших большую роль в эстетическом самоопределении Макса: 6 марта в Москве умер B. И. Суриков; 14 ноября в Руане под колёсами поезда погиб Э. Верхарн; 23 ноября в Париже скончался О. Редон. Конец Верхарна заставит Волошина о многом задуматься. Пока что он переводит его стихи («Город», «Дерево», «Завоевание», «Душа города», «Любовь» и др.), выступает с лекциями о его творчестве. Глубинно-философское осмысление судьбы бельгийского поэта ещё впереди… Но уже сейчас Волошин убеждён, что «смерть Верхарна не случайна… что он, достигший… высот познания мира, не должен был соблазняться краткой человеческой ненавистью… — и погиб, символически раздавленный той грубой силой, для которой он в этот апокалипсический момент Европы не нашёл заклинающего слова».
Читая лекцию «Судьба Верхарна», Волошин заостряет внимание на индусском понятии судьбы — карме: «Закон кармы учит нас… что ничто не может быть случайным, что всякое наше действие, всякая наша мысль и наше чувство рождают вокруг себя волны, которые рано или поздно вернутся в нашу жизнь возвратным ударом». Жизнь и смерть Верхарна наглядно иллюстрируют этот закон: человек, «достигший в своём творчестве… высшего просветления любви и благословения всего сущего», опустился до ненависти. Поэтому нет сомнения в том, что его нелепая смерть «с отрезанными ногами под колёсами поезда является совершенно точным отображением в мире физическом того душевного разлада… который он нёс в своём духовном мире». Верхарн, по мнению Волошина, не исполнил свой высший религиозный долг. Ведь если «гражданин несёт свой долг по отношению к своей стране в данный исторический момент», то поэт «исполняет долг по отношению к человечеству — в данную историческую эпоху». Поэтому «в эпохи всеобщего ожесточения и вражды» надо, чтобы оставались те, «кто могут противиться чувству мести и ненависти и заклинать обезумевшую действительность — благословением».
В декабре уходящего года Макс решился выступить в необычном для себя амплуа психофонолога, попытавшись по голосам поэтов определить их творческую индивидуальность (статья «Голоса поэтов»). Он сознаёт, что голос — это «самое пленительное и самое неуловимое в человеке. Голос — это внутренний слепок души». У каждой души «есть свой основной тон, а у голоса — основная интонация». Но возможно ли «её ухватить, закрепить, описать»? Возможно, ведь лирика — «это и есть голос. Лирика — это и есть внутренняя статуя души». Прав был Верлен, назвав свою книгу стихов «Романсы без слов». Тон, интонация, заложенная в стихотворении, порой важнее семантического наполнения. Старые поэты «пели». Французский верлибр «поднял мятеж против торжестве-но-однообразного гула Гюго, Леконт де Лиля и парнасцев». Символизм, кроме всего прочего, был ещё «борьбой за права голоса, борьбой за интимное слияние стиха и фразы…». В русской поэзии начала XX века зазвучали, «перебивая друг друга, несхожие, глубоко индивидуальные голоса…».
Как опытный настройщик некоего внутреннего поэтического инструмента, Волошин характеризует «капризный, изменчивый, весь пронизанный водоворотами и отливами» голос Бальмонта. Он весь «как сварка стали на отравленном клинке. Голос Зинаиды Гиппиус — стеклянно-чёткий, иглистый и кольчатый. Металлически-глухой, чеканящий рифмы голос Брюсова. Литургийно-торжественный, с высокими теноровыми возглашениями голос Вячеслава Иванова. Медяный, прозрачный, со старческими придыханиями и полынной горечью на дне — голос Ф. Сологуба… Срывающийся в экстатических взвизгах фальцет Андрея Белого. Отрешённый, прислушивающийся и молитвенный голос А. Блока… Шёпоты, шелесты и осенние шелка Аделаиды Герцык. Мальчишески-озорная скороговорка Сергея Городецкого».
В стихах А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама, С. Парнок «всё стало голосом. Всё их обаяние только в голосе. Почти всё равно, какие слова будут они произносить, так хочется прислушаться к самим звукам их голосов, настолько свежих и новых в своей интимности». Не случайно тот же Мандельштам написал: «Значенье — суета, и слово — только шум, когда фонетика — служанка Серафима»…
Впрочем, и сам Волошин нередко становится объектом внимания критики. В печати в это время появляются работы, эскизные или обобщающие, касающиеся его творчества. Целая серия публикаций принадлежит перу керченского журналиста Вл. Одинокого. В статье «Душа тоскующей полыни» (Южная почта, 1916, 6 декабря) автор пытается охарактеризовать природу киммерийской лирики поэта; в небольшом эскизе «Максимилиан Волошин» (там же, 9 декабря) говорится о его декламационном даре: «Когда он читает стихи, голос его преображается: он крепнет, становится резким, внушающим… Исчезает наружная маска спокойствия и безмятежной ласковости. И встаёт тень творца „Киммерийских сумерек“ и „Руанского собора“. Резко отчеканивает он каждое слово, читая „Портрет Бальмонта“. Страшно, пророчески звучали верхарновские гимны-проклятия городу в маленькой комнате…»