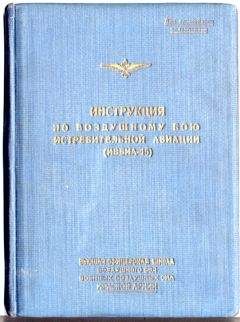Марина Цветаева - Мне нравится, что Вы больны не мной… (сборник)
Стихия, конечно – стихи, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему прощай! Потому что когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А «моей души предел желаний» – предел, это что-то твердое, каменное, очень прочное, наверное, его любимый камень, на котором он всегда сидел.
Но самое любимое слово и место стихотворения:
Вотще рвалась душа моя!
Вотще – это туда. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могу попасть, потому что между нами – Ока, еще в La Chaux de Fonds, в тетино детство, где по ночам ходит сторож с доской и поет: «Gué, bon gué! Il a frappé dix heures!» – и все тушат огни, а если не тушат, то приходит доктор или сажают в тюрьму, вотще – это в чужую семью, где я буду одна без Аси и самая любимая дочь, с другой матерью и другим именем – может быть, Катя, а может быть, Рогнеда, а может быть, сын Александр.
Ты ждал, ты звал. Я был окован.
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.
Вотще – это туда, а могучей страстью – к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания туда Пушкин и остался у берегов.
Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет – что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с моими детскими желаниями, то есть полный физический столбняк.) И, со всем весом судьбы и отказа:
У берегов остался я.
(Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда вотще, туда, то, там начинает называться именем, из всей синевы тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами, а в моем детстве и с пенсне, и с усами… И как мы люто ошибаемся, называя это – тем, и как не ошибались – тогда!)
Но вот имя – без отчества, имя, к которому на могильной плите последние, верные, с непогрешимым чутьем малых сих отказались приставить фамилию (у этого человека было два имени, фамилии не было) – и плита осталась пустой.
Одна скала, гробница славы…
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон…
О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: «Мама, что такое Наполеон?» Наполеон – тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало – чтобы полюбить на всю жизнь?
…И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.
Вижу звездочку и внизу сноску: Байрон.
Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть – море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится гений. Его зовут Байрон.
Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море…» начинались слезы. «Прощай же, море! Не забуду…» – ведь он же это морю – обещает, как я – моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что – забудет, тогда он опять обещает: «И долго, долго слышать буду – Твой гул в вечерние часы…» (Не забуду – буду.)
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
И вот – видение: Пушкин, переносящий, проносящий над головой все море, которое еще и внутри него (тобою полн), так что и внутри у него все голубое – точно он весь в огромном до неба хрустальном продольном яйце, которое еще и в нем (Моресвод). Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так этот перенесет на себе – все море – в пустыню и там прольет его – и станет море.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
Когда я говорила волн, слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже иногда приходилось начинать новую десть.
* * *Об этой любви моей, именно из-за явности ее, никто не знал, и когда в ноябре 1902 г. мать, войдя в нашу детскую, сказала: к морю, – она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит К Морю, т. е. дает обещание, которого не может сдержать.
С этой минуты я ехала К Морю, весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала К Морю.
По сей день слышу свое настойчивое и нудное, всем и каждому: «Давай помечтаем!» Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы сотрясаемого отъездом дома – упорное – сомнамбулическое – и диктаторское и нищенское: «Давай помечтаем!» Ибо прежде, чем поймешь, что мечта и один – одно, что мечта – уже вещественное доказательство одиночества, и источник его, и единственное за него возмещение, равно как одиночество – драконов ее закон и единственное поле действия, – пока с этим смиришься – жизнь должна пройти, а я была еще очень маленькая девочка.
– Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Совсем немножко помечтаем!
– Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.
– Ася! Я тебе дам то, Сергей Семеныча, яичко.
– Ты его треснула.
– Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.
– Тогда давай. Только очень скоро давай – помечтаем, потому что я хочу рисовать.
Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси, кроме камешков и ракушек, в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее, за эти ракушки, била.
С Асей К Морю дробилось на гравий, со старшей сестрой Валерией, море знавшей по Крыму, превращалось в татарские туфли – и дачи – и глицинии – в скалу Деву и в скалу Монах, во все, что угодно, превращалось – кроме самого себя, и от моего моря после таких «давай помечтаем» не оставалось ничего, кроме тоскливого неузнавания.
Чего же я от них – Аси, Валерии, гувернантки Марии Генриховны, горничной Ариши, тоже ехавшей, – хотела?
Может быть – памятника Пушкина на Тверском бульваре, а под ним – говора волн? Но нет – даже не этого. Ничего зрительного и предметного в моем к морю не было, были шумы – той розовой австралийской раковины, прижатой к уху, и смутные видения – того Байрона и того Наполеона, которых я даже не знала лиц, и, главное – звуки слов, и – самое главное – тоска: пушкинского призвания и прощания.
И если Ася, кем-то наученная, говорила «камешки, ракушки», если Валерия, крымским опытом наученная, называла глицинии и Симеиз, я, при всем своем желании, не могла сказать – назвать – ничего.
* * *Но в самую последнюю минуту пришла подмога: первая и единственная морская достоверность: синяя открытка от Нади Иловайской из того самого Nervi, куда ехали – мы. Вся – синяя: таких сплошных синих мест и открыток я еще не видела и не знала, что они есть.