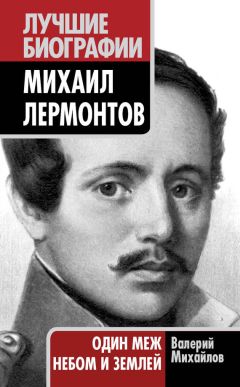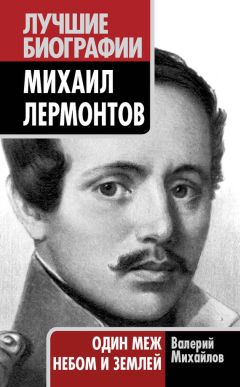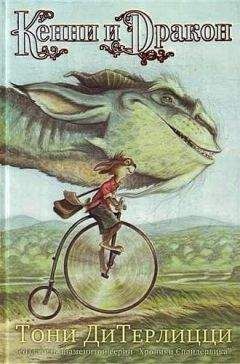Валерий Михайлов - Лермонтов: Один меж небом и землёй
Не то ли самое, только в более гармоническом виде, впоследствии выразил Фёдор Тютчев в «Silentium» («Молчи, скрывайся и таи / И чувства, и мечты свои… Мысль изреченная есть ложь»)?.. Здесь — о печальном уделе поэта, что вечно стремится объять необъятное, воплотить — вполне не воплощаемое, сказать несказанное; здесь — об ограниченности человеческого слова, о его пределах — перед беспредельностью души, чувства и мысли; здесь — о слове перед ликом Слова.
Какое дело нам, страдал ты или нет?
На что нам знать твои волненья,
Надежды глупые первоначальных лет,
Рассудка злые сожаленья?
Взгляни: перед тобой играючи идёт
Толпа дорогою привычной;
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной.
А между тем из них едва ли есть один,
Тяжёлой пыткой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты!..
Поверь: для них смешон твой плач и твой укор,
С своим напевом заученным,
Как разрумяненный трагический актёр.
Махающий мечом картонным…
Зрелому Лермонтову кажется постыдным — носиться только с самим собою, со своими печалями и бедами; он с потрясающей, непреходящей остротой ощущает трагедию всех, саму трагичность жизни, и только что не призывает к полному безмолвию; но любой мало-мальски лживый звук уже вызывает в нём непреодолимое отвращение и горечь. — Это — высочайшая требовательность к искусству, предупреждение всем литераторам, и — самому себе.
Из современников поэта лишь Виссарион Белинский почуял силу и глубину этого стихотворения, справедливо включив его в «триумвират» — вместе с «Думой» и «Поэтом». Критик заметил, что в «Не верь себе» Лермонтов указывает тайну истинного вдохновения, «открывая источник ложного».
По-другому истолковал стихотворение Вячеслав Иванов:
«В другие времена Лермонтов стал бы провидцем или гадальщиком или одним из тех поэтов-пророков, чьей власти над толпой он завидовал. Они, верные, по его мнению, своему истинному предназначению, ещё не торговали своими внутренними муками и восторгами, выставляя их на потеху равнодушной и рассеянной толпе. Современный поэт обречён на компромиссы и умолчания, ему недостижимо созвучие слагаемых им песен с голосами, наполняющими его душу, оракулами тёмными и невнятными вдохновляющего их божества: посмел бы он привести на пошлый пир свою высокую, неистовую, обуянную силой бога подругу? Чернь аплодирует или освистывает поэта, как комедианта; печальное ремесло! Лучше расточить жизнь в беспечных делах, растратить в низменных усладах, опрокинуть в один миг отравленный кубок! Разгневанный романтик бросает в лицо светской черни „железный стих, облитый горечью и злостью“: facit indignato versum (негодование рождает стих).
Ему в голову не приходит, что поэту, каким прорицал его ясный гений Пушкина, после эпохи древних поэтов-пророков дано новое призвание, иное, не менее священное, более любимое музами, и это призвание — искусство. Знаменательно, однако, что русский неоромантик первых десятилетий XX в., Александр Блок, называет „адом искусства“ судьбу вдовствующего поэта-провидца, обречённого после того, как замолкли откровения первых дней, отражать в своих произведениях disjecta membra (разрозненные члены) мира, сорвавшегося с петель и расколовшегося, многоцветного, но потерявшего единство и высший смысл».
Конечно, толкование Вячеслава Иванова навеяно не в малой степени судьбой предка Лермонтова — Фомы Рифмача, но почему философу, при всём его уме, не пришло в голову, что Лермонтову, может быть, недостаточно того, что прорицал Пушкин как новое призвание поэта, недостаточно только искусства? Ведь это так просто представить: Пушкину, с его ангелом Радости, было достаточно, а Лермонтову, с его ангелом Печали, — нет. Лермонтову, в отличие от Пушкина, мало было только земного. Александр Блок, с его «адом искусства», гораздо ближе к тому, что испытывал Лермонтов (однако у Лермонтова, конечно, был не только этот ад, но и рай).
В стихотворении «Не верь себе», в этом иронией просквожённом «железном стихе», есть нечто, о чём поэт не говорит ни слова, перед чем он застывает в незримом трепете умолчания: это тайна поэзии и таинство Слова.
Стихи-молитвыНедаром вскоре, почти что следом, у Лермонтова появляются два коротких стихотворения, тончайшими нитями связанные с его «триумвиратом»: «Думой», «Поэтом» и «Не верь себе».
Первое — «Молитва»:
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
Это — о Слове, о рае — и жизни, и искусства!..
Созвучье слов живых — это и есть воплощённое Слово, Бог-Слово; только Он дарует истинную жизнь и разрешает всё горестное и печальное в ней. (Разумеется, выражение «святая прелесть» далеко от верности христианским канонам: слишком земное — и Лермонтов как православный человек наверняка это понимал, однако он всегда был внутренне свободен и всегда был свободен в творчестве; да и «силой благодатной» всё перекрывается…)
Совсем немного слов, обычных, простых в этой «елейной мелодии надежды, примирения и блаженства в жизни жизнью» (как определил это стихотворение Белинский), но какое безмерное, сияющее пространство очищающей радости открывается и захватывает тебя, врачуя душу!..
Поразительно, более сорока композиторов положили на музыку этот, необыкновенной теплоты, поэтический шедевр Лермонтова, в скором времени вошедший в народный песенный репертуар…
И второе стихотворение, написанное в том же 1840 году:
Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слёзы разлуки,
В них трепет свиданья.
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рождённое слово;
Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.
Не кончив молитвы.
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
Это уже не молитва, но для поэта — сильнее молитвы и жарче, властительнее битвы (коль скоро на звук речей он тут же бросится навстречу — а в сече, как потом показала Кавказская война, Лермонтов был яр и безудержен, — но, видно, зная себя, знал и то, о чём говорил в стихотворении).