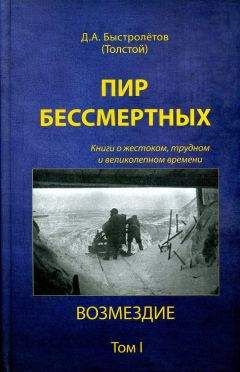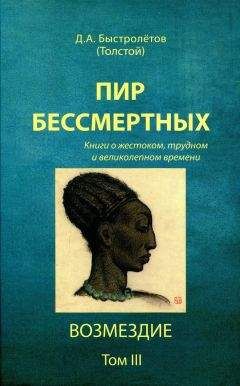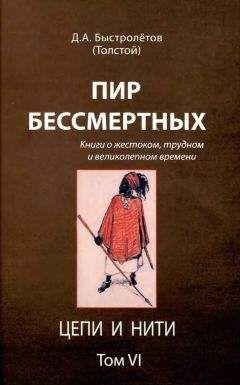Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 2
— Знаешь, деточка, я повторяю: от твоего рассказа у меня уже закружилась голова, — сказала Анечка. — Это черт знает что такое.
— Сейчас все кончится, — успокоил я. — Подожди еще немного.
— Однажды я выполз на Галату в поисках работы и натолкнулся на трех прилично одетых молодых людей, шедших с двумя скромными миловидными девушками. Я угрюмо шарахнулся в сторону, но один из молодых людей закричал:
— Боже, ты, Димка? И в таком виде? Познакомься — княжна Нина Чавчавадзе и графиня Елена Толстая, а это — гардемарины Долгов и Автократов!
Говоривший был друг моего детства, Гришка Георгиев, петербургский гардемарин.
— Что ты делаешь?
— Ничего.
— Вижу. Поступай к нам!
— Куда?
— В колледж!
Я был принят на следующий день. Чистить меня и мыть поручили пожилым женщинам-прислужницам. Из объятий мадам Розы Лейзер волею судьбы я попал в объятия княгини Долгорукой, княгини Трубецкой и княгини Чавчавадзе.
— Ну вот, это здорово! Наконец-то! — улыбнулась Анечка и пожала мне руку.
Я был принят в последний, выпускной класс.
Учиться оказалось настолько легко, что я даже не запомнил классных комнат, хотя окончил колледж на одни «отлично»: да, старая русская гимназия давала ученикам хорошую подготовку.
Вместо парт мы сидели по трое за длинными столиками. Моими соседями оказались пухлый надменный барон Клодт фон Юргенау и беленькое воздушное существо — граф фон дер Пален. Я их подавлял своей живостью, образованностью и жизненным опытом, к тому же меня вечно ставили им в пример, и рисовал я не хуже Клодта. Поэтому оба злились, боялись меня как огня и полностью со мной рассчитались, когда несколько месяцев спустя у меня начался тяжелейший психоз и я стал беззащитным, как тумба. Много позднее с графом мы встретились в Конго, и я его описал в повести «Цепи и нити».
Зима пролетела быстро, и я помню только осенние теплые дни и наши обеды во дворе. Здание было расположено на крутом склоне, и двор представлял собою несколько террас, обсаженных тенистыми фиговыми и айвовыми деревьями. Террасы посредине сообщались каменной лестницей, по обеим сторонам которой стояли накрытые белыми, сильно накрахмаленными скатертями, хорошо сервированные столы.
Выбежав из спальных или классных комнат, мы гурьбой скакали вверх и с шумом рассаживались за столами. Потом воцарялось чинное молчание. За нашими спинами становились три подавальщицы, названные выше княгини. Все в ожидании смотрели вниз. Тогда из двери появлялись два помощника повара в белых высоких колпаках, белых кителях и серых, в клеточку, брючках, с салфетками и разливными ложками в руках. Они вдвоем тащили огромную кастрюлю, потом другую, третью, четвертую.
Оба повара были остзейскими баронами — Левис оф Менар и Багге оф Боо. Бароны, пыхтя и чертыхаясь, тащили одну кастрюлю за другой на середину террасы, лихо взмахивали ложками и начинали раздачу; княгини, пыхтя и тоже чертыхаясь, разносили тарелки.
Блюдо к завтраку всегда было одно и то же — запеченная с яйцами консервированная американская тушенка и рисовая каша на сгущенном молоке, политая сверху свежим вареньем из инжира, апельсинов и лимонов; к этому каждый получал большую кружку какао. Обеды и ужины выглядели соответствующе, то есть по-американски.
Пятна света и тени казались золотыми и голубыми, морской воздух был свеж и мягок, розовые молодые люди в белом вели себя подчеркнуто церемонно, и я сидел среди них, не веря, что совсем рядом, двумя улицами книзу и чуть влево, свирепо рычит Галата и хохочет Тартуш. Опустив глаза на накрахмаленную скатерть и лежащие на них мои розовые пальцы, я видел борт нашей шлюпки и синие от холода тонкие пальцы молодой матери и весло Кочи-татарина, дробящее ей кости… Ее глаза, полные любви и скорби… Ее улыбающийся рот, который вижу уже через синюю холодную воду… Я чувствовал, что прошлое цепко держит меня за шиворот и не хочет отпустить на свободу.
Но вначале я еще пытался сопротивляться.
Девушек поместили на втором этаже, и моя одноклассница, рыжая, конопатая и зеленоглазая баронесса Ловиза в полночь раздевалась донага и все верхнее и нижнее платье складывала под покрывало в форме человеческой фигуры, а сама из окна спускалась вниз, ко мне и Гришке. Она ловко ползла по стене, держась за крючковатые стволы и синие гроздья старого винограда, а в зубах у нее болтался шелковый платочек. Мы ее ожидали с маленькими фунтиками миндаля в жженом сахаре и сгорали от любви, страсти и нетерпения. Спустившись, Ловиза опускала платочек к рыжему пушку между ног и говорила шепотом: «Держите за кончики!» Лязгая зубами от ярости и ревности, мы, как два ощерившихся волка, глазами рвали друг друга на куски, но держали платочек, а она тем временем быстро щелкала миндаль.
Когда все было съедено, она по-английски говорила: «Спасибо, мальчики!» — брала кончик платка в зубы и лезла обратно вверх, легкая, тонкая и голубая, как ангел. Но даже в те мгновения, помимо воли, я уже видел ее — молодую мать, медленно уходившую под воду.
После окончания занятий нам выдали дипломы бакалавров и отправили в Эрен-киой, отдыхать на роскошную виллу турецкого генерала, сбежавшего к кемалистам. Мы лежали на паркетном полу в зале, стены которого были обтянуты голубым тисненым французским шелком. Вот тогда и случилось то, что было заложено во мне бабушкой Осой и матерью: скрытая психическая болезнь приняла явные формы. Я перестал говорить и двигаться и сидел, свесив голову на грудь. Все слышал и понимал, но не мог заставить себя двигаться и говорить. Внутри все разрывалось от нестерпимой боли. Бредовых представлений не было, но я очутился во власти одного навязчивого представления — молодой матери, которая подплывает к нашей перегруженной беженцами шлюпке, втискивает меж чужих ног своего ребенка и потом тонет у всех на глазах, счастливо улыбаясь и глядя на меня из-под воды лучезарными глазами.
Я не мог сбросить с себя это видение. Мой новый друг, Котя Юревич, водил меня под руку к морю, я сидел на камне и смотрел на большого орла, который прилетал туда купаться и сушиться: орел, широко распахнув крылья и гордо закинув хищную голову, стоял на торчавшем из воды камне, как отлитая из бронзы статуя победы, а я, бессильно уронив голову на грудь, сидел на берегу, как символ поражения. Но мне было все равно.
Когда похолодало, нас привезли в Чехословакию и устроили в высшие учебные заведения.
Анечка перевела дух.
— И кончился, наконец, этот жуткий период твоей жизни? Всё хорошо, что хорошо кончается, правда?
Но я ничего не ответил: лгать не было сил, но и сказать правду я тоже тогда не решился.