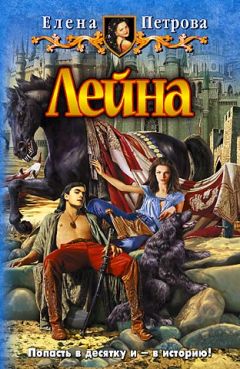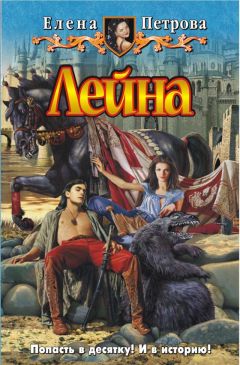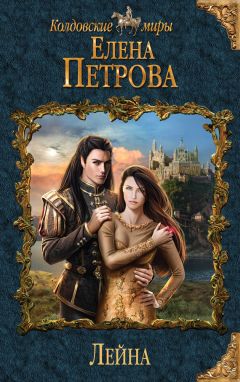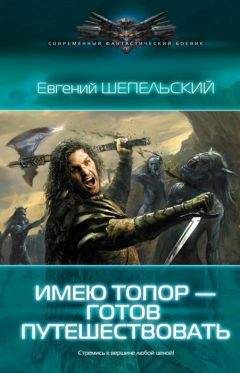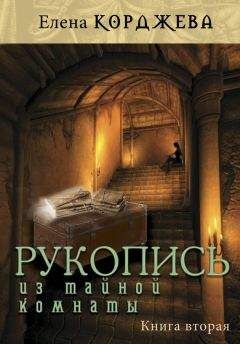Олег Будницкий - Женщины-террористки России. Бескорыстные убийцы
В небольшой библиотечной комнатке около Егора всегда сидело несколько человек, а он вечно писал — или корреспонденции к книгоиздательствам и на волю к товарищам, или каталоги — своим мелким бисерным почерком редкого изящества и односложно со всеми переговаривался, никогда почти не попадая в тон непрестанно разгоряченному Петро Сидорчуку. Когда Петро, влетал в камеру (он не умел входить) с каким-нибудь вопиющим, по его мнению, фактом новой проделки «прошенистов», Егор, поблескивая тихонечко глазами на Петрика, продолжал обычно вырисовывать свои буквочки. Но если факт действительно вопиял, вставала с места и Егорова высокая худая фигура. Румянец заливал все лицо, и он глухим, неровным по звуку из-за глухоты, голосом с волжским выговором на «о» начинал узнавать подробности от Петра, видимо внутренне волнуясь и часто переспрашивая, так как не всегда все ясно слышал. Егор отличался огромной выдержкой, и интересно было глядеть на них вдвоем, потому что Петрик сыпал «фактами» и руганью, кричал во все горло, бледнел, краснел, чуть не плакал от злости; сжатые кулаки его махали во все стороны, и только Егор мог хотя чуточку вводить его в норму.
В библиотечной же комнатке в уголке, за деловым разговором с Григорием Александровичем, иногда виднелась изящная фигура невесты Егора, пользовавшейся, как и все приехавшие на свидание правом свободного входа в тюрьму, Марии Алексеевны Прокофьевой. В юности Егора М. А. была большим его другом. Их отношения, как и отношения Егора с матерью, могли бы служить темой красивой поэмы. Девушка с серо-зелеными огромными лучистыми глазами, со строгим взглядом, прозрачным, бледным, тонким лицом и золотыми косами, вся нежная, точно пронизанная светом души своей и в то же время строго-серьезная, — она производила на нас в свой приезд в Акатуй большое впечатление. Она гармонировала с Егором без единого диссонанса. Егор смотрел на нее из своего угла удивленно любящими глазами и редко решался бывать с ней вместе.
«Я почтительно посторонился», — говорил он мне, — имея в виду, что «Ма», как звали ее библиотечные обитатели, приехала в Акатуй для устройства побега Гершуни.
М.А. в 1908 году была арестована и осуждена в ссылку по обвинению в косвенном участии в деле о заговоре на жизнь Николая Романова. Из ссылки она бежала за границу, откуда вела особенно оживленную и регулярную переписку с Егором. Письма ее, крупного, умного и интересного человека, много вносили в жизнь Егора. Сильная и твердая в своей вере и любви, она жила надеждой на его близкое освобождение и на встречу с ним. Год его боевой, изолированной от всех работы, 7 лет каторги — 7 долгих лет она ждала его, горела светлой, чистой любовью, как свеча перед богом. Последние ее письма к Егору были сплошным ликующим гимном их встрече в свободе, любви и совместной работе. Она считала дни. До выхода Егора на поселение оставалось всего 6 недель, когда последовала его смерть. Узнав о трагическом конце, М.А. слегла и, тихо угасая, умерла.
Так оборвалась эта недопетая песнь, замолчали навек несказанные слова прекраснейшей сказки.
С не меньшей тоской и любовью ждала Егора мать. Некоторые из наших видели ее, строгую, монашеского типа, покрытую платочком старуху со скорбным лицом и глубокими глазами, в Бутырках на свиданиях с сыном. Вся жизнь у нее уходила в глаза, когда она смотрела на него. Это она сделала его добрым и ищущим правды, это она растила его «ходящим под богом», это она научила его бояться причинить самомалейшее страдание всему живому.
И когда он вырос у нее всем на удивление и радость, — как, как она должна была любить своего сына и трепетать за его жизнь!
Егор всегда чувствовал ее тоску и тревогу за него и пользовался всяким случаем для пересылки лишней весточки о себе. Кривил душой, расписывая хорошесть каторжной жизни, веселил, утешал и манил скорой встречей.
Тюремная власть усиленно скрывала могилу Егора, уничтожая все знаки, которыми упрямо отмечали место погребения преданные нам надзиратели и уголовные вольнокомандцы. По выходе на волю после февральской революции товарищам трудно было найти могилу. Один товарищ съездил на лошадях специально за бывшим тюремным надзирателем вглубь Забайкалья за 300 верст от Зерентуя, и тот, меряя ногами и вычисляя направление, нашел зарытое тело. Лицо, лоб в каменистой мерзлой почве остались неистлевшими, все сразу узнали его. Но еще нетленнее живет память о нем среди всего надзора из Зерентуйского тюремного населения.
Тело его было привезено в Уфу. Мать встретила сына в гробу такая же строгая и величавая в своем немом горе, как и раньше, когда она его видела живым в цепях за каменными стенами. В каждый год в день смерти Егора, собирая все свои крохи, она ставит столы в доме и кормит всякого приходящего к ней бездомника, нищего и голодного. Но и весь год дверь ее отперта любому, нуждающемуся в ней. В доме скорбь и тишина, будто лежит еще неостывшее тело, и протекающие годы не приносят утешения. Но именем Егора и в память его матерью, в согласии с ее убеждениями и бытом, творится непрестанное добро.
* * *У Егора было ценнейшее качество, крайне редкое среди русских людей: он умел становиться на чужую точку зрения, понимать ее всецело и болеть мукой чужой мысли, как своей собственной. От этого обмен мыслей с ним, иногда страстный спор никогда не переходил в ссору, полемику и фракционность, как почти всегда в России в частной и общественной политической жизни. С ним всякий спор был захватывающе интересным и дружным исканием сообща наилучшего решения вопроса. Лично мне он не один раз помогал выпутываться из ряда теоретических сомнений и объективного и субъективного характера, начиная с неразрешенной и неразрешимой гносеологической проблемы о координировании мышления и бытия, объекта и субъекта, и кончая совершенно личными grubleil[208]*. Чтобы помочь другому, он брался за книги, не предложенные им для чтения в данное время и увлекался ими, конечно, всерьез. При попытках найти ответ на философские вопросы в нем проявлялась глубокая проницательность и самостоятельность ума. Каждое его письмо было серьезной трактовкой поднятой темы.
Способность Егора не обострять спора и не давать ему вырождаться сказалась особенно ярко в 1909 году, когда в тюрьме стал страстно обсуждаться «Конь бледный» Ропшина[209] Егор, понимавший и принимавший и Ваню, и Жоржа выступил с рядом статей-писем по вопросу о революционной морали, и этот спор, ведшийся в письменной форме, вынес вместо фракционности и раздражения расширение горизонта у ряда товарищей. Аргументация Егора была в этих статьях-письмах чрезвычайно самостоятельна и смела мыслью.