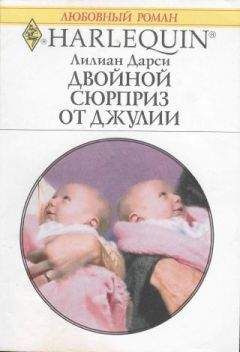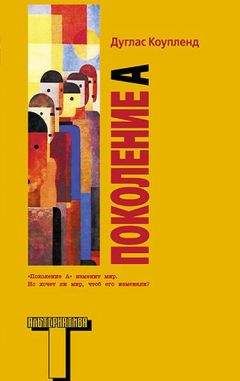Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)
Но вернемся в режимную бригаду. Итак, мы ходили на карьер, расположенный возле шахты № 31 недалеко от лагеря. Если стоять лицом к шахте, то левее были домики поселка, отделенные от нас полем и веткой железной дороги. Сзади нас, из-за бугра, виднелась другая шахта, к которой тоже вела железная дорога. Однажды по ней от этой шахты паровоз потащил три высоких платформы с рудой. Один из конвойных той шахты еще на ходу продолжал их досматривать, да как-то неловко подвинулся и свалился под колеса. Его немного протащило и оставило на переезде, по которому мы переходили дорогу на карьер. Он лежал метрах в пятидесяти от нас и еще шевелился. Мы побросали работу и столпились у проволочных ворот карьера. К солдату никто так и не подошел. Тогда мы стали просить наш конвой помочь чем-нибудь, говорили, что здесь есть медики (имелся в виду я), что надо хотя бы кровь остановить, наложить жгуты. Никакого ответа. Подобный случай, видно, не входил ни в какие инструкции. Так и скончался этот несчастный в одиночестве, когда рядом было полно людей. Страшная система, не укладывающаяся в голове. Прошло довольно много времени, пока приехала машина, и беднягу увезли. А через два дня мы слушали звуки похоронного марша.
Для варки обеда на карьере нам не доставляли ни воды, ни дров. Поэтому и то, и другое приносили с собой — деревянный бочонок на палках и вязанку дров. Очень скоро бригадники сообразили, что дрова нужны в большем количестве, и мы, идя к воротам на развод, прихватывали в зоне все, что плохо лежало и могло гореть. Затем, обнаглев, стали ломать где скамейку, где штакетник, унесли бочку. Так продолжалось довольно долго — формально нам разрешалось выносить дрова. Наконец начальство спохватилось, что мы сожжем в лагере все деревянное, и мы вновь стали выходить только с вязанкой дров.
Как я говорил, мы работали с большой прохладцей, больше грелись у костра, ходили взад-вперед (Миша Кудинов ходил обычно один и учил английский язык). Если выдавался безветренный день, то за штабелем было даже неплохо. Припоминается, как наш Иван Волгачев в таком вот затишье стал выворачивать свои карманы и очищать их от всякого сора, свалявшейся пыли, всего того, что там бывает без дела. «Вот так унтер у немцев заставлял раз в неделю чистить карманы. Построит и проверяет», — сказал Иван. Мне вспомнилась наша полковая школа под Серпуховом и помкомвзвода Журин с его поучениями, что командир должен знать, что лежит в карманах у солдат. Да, порядки везде одинаковые, только у немцев это делалось проще.
Вскоре рядом с нами отгородили участок поля и открыли новый карьер, куда гоняли отдельно от нас бригады с того же лагпункта. Получилось два карьера, отгороженных одной проволокой — «бизония», как называли у нас по аналогии с тем, что тогда делалось в Германии. За этой проволокой вкалывали по-настоящему, и штабели из камней росли, как грибы. Надо сказать, что с прохладцей у нас работали не все. Китаец Ван-Пин-Чин, как говорится, пахал на совесть. Были другие такие же работяги. Но за перевыполнение нормы и получали больше хлеба и лишний черпак каши.
В одном из звеньев режимной бригады работал Иван Распоркин — фигура трагикомичная, довольно точно характеризующая теорию и практику карательных органов того времени. Это был еще сравнительно молодой деревенский парень, белобрысый, весь в прыщах с огромной головой типичного гидроцефала (водянка головного мозга) и с соответствующими этой болезни психическими дефектами. По натуре, кругозору и умственному развитию это был совершенный ребенок. Судить таких — преступление. За что он попал в режимку, не помню, а вот в лагерь — очень просто. Был молотобойцем в деревенской кузнице в Курской области. Кто-то, вероятно, шутки ради спровоцировал его на критику колхозных порядков. Это большое дитя сболтнуло и получило десять лет лагерей. Для бригады Иван Распоркин был чем-то вроде шута, по-детски боялся щекотки, особенно, если его начинали щекотать, подойдя сзади. Еще в деревне его женили, и это был самый веселый для бригадников рассказ, вернее не рассказ — рассказывать Иван не умел — а ответы на вопросы. Обычно вопрошающих было несколько, а Иван, сидя на нижних нарах, расставив босые ступни, сдвинув колени и вперив в них серьезный взор, тихо и искренне отвечал. Работал он прилежно, но что умел замечательно делать — это играть на балалайке. Удивительно бойко, хотя репертуар его был очень скудным. В бараке и зимой и летом всегда ходил босиком по заплеванному земляному полу, и пятки его круглый год были в черных трещинах, в которых, по выражению Ольпинского, водились клопы.
А вот еще один «политический». Звали его Леша, паренек из Армавира, совсем молодой, но уже сидевший года три. Была веселая ватага подростков. Вместе рыбачили, вместе лазили по садам и огородам, гуляли. Однажды за городом начали кидаться камнями в проходящий пассажирский поезд. Поезд проехал, а они пошли дальше. Вскоре их нагнала дрезина, из которой выскочили военные, и всех их похватали. В поезде ехал Ворошилов. Вот и вся политика. Но самое забавное то, что Леша в этот день сидел дома и в кидании камней не участвовал. Все получили свои сроки, а Леша только пять лет как соучастник.
Придя в карьер в один из весенних дней, мы увидели, что штабели камней как известкой облиты — все в белых пятнах. Рассмотрели — гусиный помет, местами даже с рыбьими косточками. Видно, ночью здесь отдыхала стая гусей с весеннего перелета. Ох, как потянуло на волю! А вот, один из наших бригадиров, армянин из закавказского легиона, по-своему преломил этот визит гусей. На следующий день на карьере появилось ведро с известкой, и бригадир кропил ею каждый принятый штабель — одно из средств борьбы с туфтой. Но это помогало не очень: такой штабель разбирали начисто и клали вновь, заложив меченые камни внутрь. Приемов туфты было много, о чем я уже говорил. Здесь же это было чуть ли не искусством. Надо сказать, что бригадиры понимали, что прижать нас нельзя, не тот народ. Один из них, тоже легионер-армянин Хачик, и внешне и по нутру типичный азиат, попытался было заставить «вкалывать» на карьере. Тогда группа в пять человек отозвала его за штабель, и Хачик сделался мягким и обходительным.
Вскоре нас перевели на другой карьер, прямо против лагеря, на пригорке метрах в двухстах от зоны. С пригорка были хорошо видны и весь лагерь, и дивизион, охраняющий нас, и степь, уходящая за горизонт. В степи далеко за железной дорогой в Джезды два домика. Вокруг них столбы с фонарями, светящими в окна — склад взрывчатки для отпаливания руды. Еще дальше домик и ангар единственного самолетика лагерного начальства — важное подспорье в поисках беглецов. А дальше степь, постепенно поднимающаяся в пологие холмы. Левее на юг совсем плоская степь, которую пересекала узкоколейка на Карсакпай и дальше на Байконур, степь — ни кустика, ни деревца, зимой белая, весной зеленая, летом и осенью бурая.