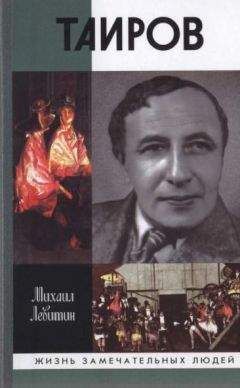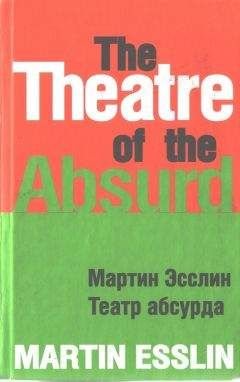Владимир Лакшин - Театральное эхо
У свахи по дворянству два влюбчивых молодых человека – один стихи пишет, другой поет (не Островский ли с Т. Филипповым?).
Мария Андреевна – Милашину: «Вы всё о себе. Вы обо мне подумайте хоть немножко». (Это тоже… в «Бесприданнице»).
Поэтический ум Островского
Островский много думал о свойствах ума и глупости. Об этом его комедия «Мудрец».
Ум Пушкина – светлый, ясный, глубокий – он определил главным свойством его таланта. Великий поэт не только изображает чувства, он дает формулы этих чувств – кажутся они простыми, но становятся достоянием всех благодаря его гению.
Временами от Островского отворачивались, как от слишком простого и пресного блюда. Его не ставили даже в его цитадели – Малом театре – десять лет после его смерти. Он был смешон и странен в эпоху символизма. Но снова ожил в 1920-е годы, потом в 1970-е, теперь начинает неуничтожимо жить в 1990-е. Всюду играют Островского – и не потому, что юбилей. Юбилей не такой уж «круглый», напротив, он заметен полней потому, что Островского играют.
Загадка: Островский «устарел», он тяжеловесен, мораль его скучна, лица примитивны. Почему же он всё время оказывается нужен?
Его симпатии: простота, подлинность, жизненность.
Его антипатии: изощренность, искусственность, книжность.
Его критерии: это «верно», это правда, это «как есть».
Недоверие к Островскому режиссеров: мол, скучен, несовременен. Желание «расцветить». Один советовался со мной: что, если жена Большова живет с Подхалюзиным? А сваха Говорилиха – в котелке и в пенсне – в лучшем случае чеховская Шарлотта.
Надо знать и любить этот быт – как к нему ни прикасаться, иначе выйдет пакость неизбежно. Старая Москва, Замоскворечье…
Добролюбов думал, что Островский ненавидит этот быт, купцов; Григорьев – что он им любуется.
Островский – и любил, и ненавидел, то есть был вполне художником.
Репутация складывается в литературе часто несправедливо. Репутация застывает, освященная авторитетами, и трудно, почти невозможно это поколебать. Несправедливость истории литературы, основанной на репутациях.
Репутация Островского заложена на сто лет Добролюбовым. «Самодуры» и их «жертвы». Борьба «старших и младших» («Отцы и дети»?), богатых и бедных («Антон-Горемыка»?), «своевольных и безответных» («Униженные и оскорбленные»?).
Катерина – «луч света».
Всё, что писал гениальный юноша двадцати девяти лет, Добролюбов, подогретый радикализмом эпохи, – всё это относилось к девяти первым пьесам Островского, к написанному за первые десять лет работы. Остальные сорок пьес остались за флагом, и к ним только прикладывали мерки, с трудом годившиеся и для раннего Островского.
Но то, что писал Островский в 1870 – 1880-е годы, было иным: по лицам, конфликтам, пониманию. Ни «Мудрец», ни «Бесприданница», ни «Таланты и поклонники» – в старые рамки не вмещались.
«Творение и сочинение»
«Человек тогда творит, когда он бессознательное, послушное орудие творческих сил природы. Сочиняет, когда комбинирует отвлечения (которых не существует)».
Режиссеры «не творят, а сочиняют».
Первая заслуга поэта: «через него умнеет всё, что может поумнеть».
«…Все вообще великие научные, художественные и нравственные истины очень просты и легко усвояются. Но как они ни просты, все-таки предлагаются только творческими умами, а обыкновенными умами только усваиваются, и то не вдруг и не во всей полноте, а по мере сил каждого».
Любовь и деньги – в тысяче вариаций.
Сейчас были бы сверхсовременны: «Бешеные деньги», «Последняя жертва».
«Мудрость пословицы» находил в пьесах Островского Белецкий. И это правда: «наконец поймет смущенный ум…» Но есть еще у Островского и мудрость жизни: и в том смысле, что «сказка – ложь, да в ней наказ» – то есть «урок», «поучение». И в том, что кончаться она должна покоем, счастьем и удачей.
Тайна имени
Между исследователями Островского идет давний спор: насколько значимы имена, которые драматург дает своим лицам? Вопрос любопытный не только в применении к Островскому и способный пролить свет на психологию творчества вообще.
В. А. Филиппов, Кашин – обращали внимание на обилие у Островского имен и фамилий знаменательных. Их нетрудно было на выборку назвать: Дикой и Кабаниха, Любим и Гордей Торцовы, Гордей – горд, Любим – любим, Дикой – дик и т. п. Бросались в глаза сочетания имен и фамилий, до краев напитанных иронической семантикой: квартальный Тигрий Львович Лютов («Не было ни гроша…»), Ермил Зотыч Ахов, Серапион Мардарьич Градобоев.
Островский будто играл в эти фамилии, яркость которых била в глаза всякому.
Значит ли это, что Островский наследовал традицию классицизма с его Добромыслами, Простаковыми и т. п.? Нет, конечно. Множество фамилий и имен у Островского не имеют как будто никакого смыслового наполнения: Незабудкина, Хорьков… Е. Г. Холодов, один из лучших исследователей Островского, даже вовсе усомнился в том, что у Островского часты случаи значимых фамилий, они казались ему исключением.
Между тем, готовя в издательстве «Художественная литература» трехтомное издание «Сочинений» Островского, я решил проверить это не выборочно, а по всем основным пьесам. Результат был неожиданным: Островский если и не всегда, то гораздо чаще, чем мы думаем, давал своим героям значимые имена и фамилии.
Подбирая имена, он нередко заглядывал в святцы, отмечая латинское или греческое значение имени. Фамилии же выбирал тоже не случайные, но незаметно для слушателя беря некоторые из областного словаря. Известно, что он был увлечен изучением говоров, местных речений, в особенности Тверской губернии (где он путешествовал в молодости) и костромских краев. Из местных диалектов и получили имена многие его герои.
Можно спросить, зачем он это делал – ведь зритель Малого или Александринского театра часто не совмещал фамилию со смыслом ее, который был ему внятен? Но это уже вопрос психологии творчества. Зачем Толстой назвал героев Ростовы (Толстые, Толстовы), а Волконских – Болконскими? Так легче было писать, воображая знакомое лицо, – это как бакен на реке… Метка для воображения. Конечно, не всегда до конца можно определить выбор тех или иных имен – у Островского, как и у любого писателя, возможен тут элемент случайности. Просматривая как-то «Историю московского купечества», я увидел в списке купцов первой гильдии подряд два имени, показавшихся мне чем-то знакомыми – Пустовалов и Кукин. И вдруг сообразил: да так звали двух мужей чеховской «Душечки». Вероятно, когда Чехов работал над рассказом, ему подвернулась под руку – так тоже бывает.