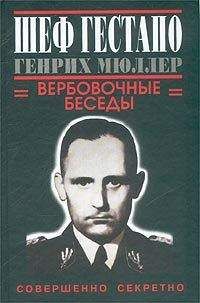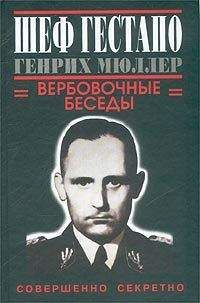Хилари Сперлинг - Матисс
Матиссу был семьдесят один год, когда весной 1941 года он буквально воскрес из мертвых. От вынужденного, впервые за пятьдесят лет, бездействия ему не оставалось иного занятия, как только перебирать в памяти прожитое. Швейцарский издатель Альбер Скира, навещавший художника в лионской клинике, был так захвачен рассказами Матисса, что уговорил его издать воспоминания. Скира воспользовался смятением художника, который все еще не мог поверить в свое «воскрешение» (я был так долго отрезан от мира, говорил он, что «во время выздоровления стал очень болтлив»). Матисс согласился почти сразу («Меня затопили воспоминания, и я решился их опубликовать»). Энергичный Скира немедленно прислал воодушевленного будущей работой журналиста Пьера Куртиона, а вместе с ним и стенографиста. Первое интервью состоялось 5 апреля, а за ним в течение трех недель последовали еще семь бесед, во время которых Матисс рассказывал о своей семье, о детстве, воспитании, об учебе и о начале карьеры.
Матисс часто путал даты, но был удивительно точен в характеристиках людей и описаниях своих эмоций. Рассказ его вращался вокруг нескольких ключевых историй, относящихся в основном к открытию им своего призвания, что придавало его жизни некий поистине мифический размах. И хотя Матисс касался подобных тем в интервью и прежде (например, в книге, над которой работал с Раймоном Эсколье в 1937 году, а также в серии диалогов с Териадом), сотрудничество с Куртионом вылилось почти в автобиографию. Матисс говорил, что хотел взглянуть на себя со стороны и увидеть в литературном тексте свое отражение. Такими и получились мемуары художника, которые он предложил назвать «Болтовня Анри Матисса», а не слишком обязывающими «Беседами с Анри Матиссом», как того хотел издатель.
В конце мая Куртион возвратился в Женеву и сел за редактуру исправленного и дополненного художником текста, который был прислан из Ниццы, куда вернулся Матисс. Мастерская в «Режине» осталась в целости, а вот птичья вольера наполовину опустела, да и выжившие птицы были еле-еле живы (достать специальный корм из муравьиных яиц в военное время было нереально). Вскоре погибла пара любимых певчих дроздов. За ними последовал верный пес Роуди, так трогательно утешавший Матисса в тяжелые минуты. Конечно, в сравнении с происходящим на Восточном фронте, где армии Гитлера стремительно продвигались в глубь России, назвать эти неприятности несчастьями язык не поворачивался.
К унизительному положению инвалида Матисс привыкал терпеливо и изобретательно; учился мириться и терпеть специальное приспособление из металла и резины, которое приходилось надевать, вставая с кровати, и даже умудрялся подшучивать над собственной беспомощностью. Чтобы он мог как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, были наняты дневные и ночные сиделки, но вскоре выяснилось, что спать даже свои обычные пять часов он не может. Тогда Матисс стал подниматься задолго до рассвета и либо дремал в кресле, либо работал с трех до шести утра. Затем художник шел на прогулку и опять ложился, стараясь поспать до полудня; потом начиналась «вторая смена». Он старался получать удовольствие от того, что еще оставалось ему доступно: еды, прогулок, рисования, встреч с друзьями. К нему приезжал Руо (который осядет после оккупации на побережье, в Гольф-Жуане), регулярно навещал Симон Бюсси, иногда появлялся Боннар. Если у Боннара не получалось добраться до Ниццы на автобусе или поезде, Матисс отправлялся к нему в Ле-Канне сам. Он добыл Боннару бывшие в дефиците холсты, снабдил масляными красками Руо, а старому другу Марке (который пережидал войну в Алжире) послал замечательные конфеты.
Матисс потом говорил Марке, да и многим другим, что операция не только прояснила его ум и заставила многое пересмотреть, но помогла вновь почувствовать себя молодым. Живопись стоила того, чтобы жить, пусть даже совсем недолго. И он не собирался терять три или четыре года, которые были необходимы, чтобы завершить «работу всей его жизни». Он нанял новых моделей и начал серию натюрмортов, лучшим из которых стал написанный той осенью великолепный «Натюрморт с магнолией»: скучную хозяйственную утварь — с тазом для варенья в центре — он расположил строго симметрично, словно знаки отличия на военном мундире, нанеся розово-лиловые и сине-зеленые пятна краски на насыщенный красный фон. «Матисс настоящий волшебник, — раздраженно сказал Пикассо, увидев полотно, находившееся в полном противоречии с логикой кубистов. При всей скромности и строгости средств натюрморт казался великолепным. — То, как он работает цветом, похоже на чудо».
Матисс был воодушевлен будущей книгой и уговаривал Руо тоже начать писать мемуары. Окончательное решение опубликовать воспоминания он принял еще в июле, когда Куртион приехал к нему в «Режину» с отредактированным текстом и готовым макетом. Он привез с собой даже пробный оттиск обложки, для которой Матисс специально сделал свой автопортрет. «Я вижу его в пижаме, похожей на одежду сборщика чая, в темном прохладном холле, где маленькая лампа освещает ряды книг. Когда он открыл дверь настежь, вместе с ослепительным блеском дня ворвалось пронзительно звонкое щебетание птиц, прыгающих в огромной вольере, — их яркое оперение как будто позаимствовало краски с его палитры… В большой мастерской… повсюду лежали вдохновлявшие художника предметы, прославленные его живописью, его талисманы: лимоны на стульях с крестообразными ножками, апельсины, сохнущие на столах, букеты лилий, раковины, вазы с горлышками различной формы, а в глубине, над кактусами, — лес лиан». Куртион был поражен светом, теплом, ароматом цветов, видом неба, моря и блестевших на солнце красных крыш. На подоконнике окна-лоджии, откуда открывался дивный вид на Ниццу, лицом к морю стоял огромный гипсовый слепок эгинской статуи с отбитым носом. Гостю из нейтральной Швейцарии, попавшему летом 1941 года в полуголодную, деморализованную Францию, мастерская Матисса, равно как и его картины, казались воплощением абсолютной безмятежности и спокойствия.
Но вскоре Куртион почувствовал некоторое напряжение, на которое прежде не было и намека. «То, что вы заставляете меня делать, — полушутливо сказал Матисс в ходе их последней беседы, стараясь скрыть раздражение, — и то, что я делаю сам, — идиотское занятие. Я снова проживаю свою жизнь, отчего не могу спать… Вы заставляете меня пройти через страшные испытания». Он словно стеснялся «словесного поноса», случившегося с ним в Лионе, считая его проявлением слабости и даже некой изменой своим принципам. Матисс признался Куртиону, что консультировался у психиатров всего трижды. Первый слушал его не перебивая два или три сеанса, отмеряя время по будильнику — ровно шестьдесят минут. Второй сказал, что с ним все в порядке, а третий объяснил, что его нервные расстройства — не болезнь, а свойство характера.