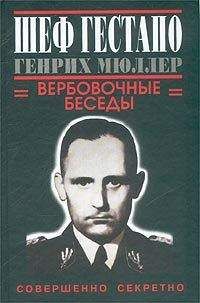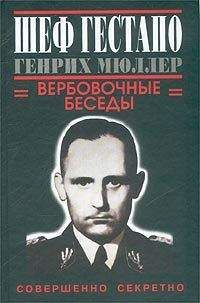Хилари Сперлинг - Матисс
В переполненном французскими и иностранными беженцами портовом Марселе Матисс в первое же утро столкнулся с подругой Маргерит Мари Жолас, бывшей директором школы, где учился Клод. Мари поведала ему, что вместе с дочерьми плывет в Соединенные Штаты, и согласилась, по просьбе Маргерит, взять с собой Клода, которого в Нью-Йорке ждет отец. Новость об отъезде внука ошарашила Матисса. Он говорил потом, что в те три дня в Марселе чувствовал себя «полной тряпкой»: ему не хотелось отпускать любимого внука, но он старался не подавать вида, чтобы успокоить ужасно переживавшую дочь. Чтобы отвлечься, он все время рисовал Клода, боясь больше никогда не увидеть мальчика (они встретятся только через пять лет). Стойкая Маргерит вела себя героически, но, проводив сына, слегла и проболела всю осень сорокового года.
К концу августа Матисс вернулся в Ниццу. Первым его шагом было введение режима строжайшей экономии, поскольку город в любой момент могли оккупировать итальянские фашисты. В Бозель, где уже находились все его картины, он в сентябре отослал коллекцию пластинок, еще остававшиеся в мастерской бронзы и большую часть мебели. Осенью, когда начался дефицит продуктов, бензина и транспорта, Матисс стал распродавать своих птиц[240]. «Меня огорчает не сама необходимость продажи, а неуверенность, в которой живешь, и стыд за катастрофу, в которой ты неповинен, — писал он Пьеру. — Все идет как в Школе изящных искусств, сказал мне Пикассо. Если бы все делали свое дело, как Пикассо и я, трагедии не произошло бы…» Пикассо сказал это еще при их встрече в Париже в мае, когда выяснилось, что возведенная престарелыми французскими генералами неприступная линии обороны — чистая фикция.
Теперь контакты с Парижем полностью прекратились и новости о старых друзьях доходили исключительно благодаря американцу Вэриену Фраю, учредителю Чрезвычайного комитета спасения. Фрай прибыл во Францию со списком выдающихся деятелей искусства (составленным в Нью-Йорке Альфредом Барром), которым угрожало преследование нацистов. Предложение о предоставлении политического убежища Матисс вежливо отклонил, равно как и приглашение Колледжа Миллс в Калифорнии прочесть курс лекций осенью 1940 года. «Мне семьдесят лет, — сказал художник, — я слишком стар и болен, чтобы перебираться на новое место». К тому же он не решался бросить свои картины: те, кто еще недавно расправлялись с его последователями в Германии, с легкостью могли проникнуть в хранилище Банка де Франс. Банковские сейфы были надежно защищены от воров, пожаров и бомбардировок, но не от конфискации. Матисс успокоился, только когда Пикассо, у которого хранились ключи от ячейки, дал знать, что картины в целости и сохранности. Однако тут же начались новые волнения — теперь за судьбу собрания Поля Розенберга и собственных работ в том числе («Что стало с моими последними холстами, которые он собирался свернуть в рулон и увезти с собой?» — переживал художник). Матисс пробовал обращаться в разные инстанции, убеждая официальных лиц вмешаться в ситуацию с замечательной коллекцией, оставленной уехавшим в Нью-Йорк Розенбергом на произвол судьбы в Бордо: «Представьте себе, что… картины потеряются или будут конфискованы немцами. Что скажут потом, когда вскроется вся история, о тех, кто мог бы приютить картины?»
В октябре Матисс случайно встретил Жоржа Бернхема. Война не пощадила знаменитого галериста: жена умерла, а единственного сына отправили в концлагерь. Подавленный обрушившимися на него несчастьями, Бернхем не хотел ни думать, ни говорить об искусстве. «Картины больше не доставляют мне удовольствия, — сказал он, — к тому же я вряд ли сумею увидеть их снова. С евреями во Франции теперь не церемонятся». Все, что могли в такой ситуации сделать Матисс с друзьями, это подписать официальную петицию в поддержку Жоржа и его кузена Жосса Бернхема. Пьер давно предупреждал отца, что правительство Виши ничем не лучше нацистов и будет рьяно изгонять евреев из мира искусства и насаждать эстетические ценности, которые олицетворяет собой Школа изящных искусств. Если возмущение политикой преследования евреев не шло дальше частных бесед, то о неприязни к методам Школы изящных искусств можно было заявить публично. Что Матисс и не преминул сделать осенью 1941 года, когда в Ниццу был переведен комитет по присуждению Римской премии. Сначала он дал интервью Радио Ниццы, а после того как текст выступления напечатала газета «Paris Soir», вырезав из него все критические высказывания, согласился повторить сказанное ранее, причем в еще более решительных выражениях.
Матисс казался себе ужасно постаревшим. «Я наблюдал, как быстро меняюсь, — волосы и борода побелели, черты лица заострились, а шея стала тощей». Все его существование свелось к еде, сну и работе. Осенью он закончил очередную прекрасную картину, стиль которой в письме своему румынскому другу Теодору Паллади[241] определил как «выразительное сочетание и сопоставление окрашенных поверхностей». В воздухе Ниццы витало предчувствие беды: город мог быть оккупирован в любой момент. «Неспокойная обстановка… так действует на меня, что я не могу или боюсь оставаться с предметами, в которые должен вдохнуть еще и чувство, поэтому я сговорился с местным агентством статистов кино, чтобы они мне присылали самых красивых девушек; если те мне не подходят, я даю им десять франков и отпускаю», — писал он Пьеру. В итоге он выбрал трех или четырех молодых моделей, которые позировали по отдельности — три часа утром и три часа после обеда.
На картине, которую Матисс назвал «Сон», он изобразил спящую девушку, чей образ неотступно преследовал его в путешествиях. Картина стоила ему года напряженной работы и сорока сеансов позирования сменявших друг друга моделей. За «Сном» последовал лаконично-жесткий «Натюрморт с раковиной», на который ушло тридцать сеансов[242]. 7 декабря Матисс написал Паллади, что над этим натюрмортом он долго размышлял, «стремясь освободиться от всего лишнего», и что эта картина — «самая выразительная с точки зрения колористического решения» из всего им сделанного. Матисс писал, что пока не может «двигаться в том же направлении дальше», поскольку «не желает повторяться». Он также признался, что нуждается в отдыхе и потому «позволил себе увлечься более обычным и менее духовным замыслом». Приближение к «материальности вещей» вылилось в написанные довольно быстро, один за другим, «с откровенным удовольствием», три «Натюрморта с устрицами» — типичного французского ланча (блюдо с устрицами, нож, салфетка, лимоны и кувшин с водой). «Тут, мой дорогой, нужны вкусовые ощущения — устрица в картине должна остаться устрицей, и в то же время в исполнении должно быть что-то от голландцев»[243].