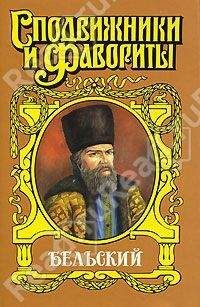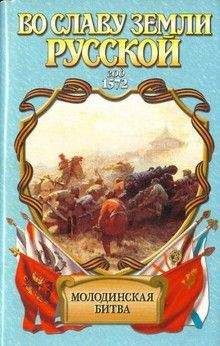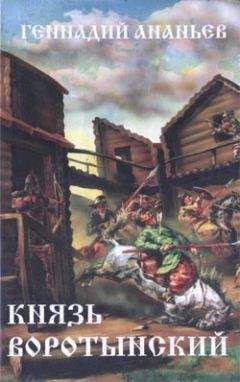Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1
Затем Багрицкий прочел «Высокую болезнь». Подчеркнув и выделив голосом финал этой поэмы о Ленине:
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход —
он подмигнул мне;
– Что? Здорово?.» По-пушкински сказано!
По его хитро прищуренному глазу и лукавой усмешке я понял, что как ни старался он убедить себя в благотворной непреложности совершающихся в стране событий, как ни вошел он по мхатовскому методу переживаний в роль «перестроившегося» поэта, а все же не ощущать мертвящей силы сталинского гнета он не может» как не может не замечать, что на поверхности нашей литературной жизни плавают нечистоты, о чем он уже заявлял недвусмысленно, швыряясь направо и налево своим излюбленным кратким» но достаточно сильным определением: «Рффф! Говно!», – применяя его и к Жарову, и к Безыменскому, и к Шухову, и к Киршону. Я подумал, что настроения, владевшие им в пору написания «Стихов о соловье и поэте», пожалуй что не выветрились из укромных уголков его существа. А ведь в послереволюционной поазии никому, кроме Багрицкого, не удалось так картинно представить продажность искусства в советских условиях, никому не удалось найти для выражения скованности советского поэта такие простые, такие прямые, такие незаменимые слова, никому не удалось сказать об этом с такой взрывчатой силой отчаяния:
Куда нам пойти? Наша воля горька!
Где ты запоешь?
Где я рифмой раскинусь?
Наш рокот» наш посвист
Распродан с лотка
Как хочешь —
Распивочно или на вынос?
Мы пойманы оба,
Мы оба – в сетях!
Твой свист подмосковный не грянет в кустах,
Не дрогнут от грома холмы и озера…
Ты выслушан,
Взвешен,
Расценен в рублях…
Греми же в зеленых кустах коленкора»
Как я громыхаю в газетных листах!..
Если бы Эдуард Багрицкий написал только «Стихи о соловье и поэте», то и тогда нам было бы за что помянуть его «незлым тихим словом».
Мы пережили рапповщину. За сколькими художниками слова навсегда замкнулись ворота Лубннок и Шпалерок! А сколько их на наших глазах переродилось и выродилось» скольких подкупили» скольких растлили! Мы пережили длившуюся годами расправу над Булгаковым. Мы пережили расправу над Зощенко и Ахматовой. Мы пережили расправу над Пастернаком. Над иными чинилась расправа незримая – тем в горло засунули кляп» тех задушили тишком. Мы все еще каждодневно испытываем на себе «заботу» партии об искусстве. Поэтому сейчас «Стихи о соловье и поэте» звучат неизмеримо трагичнее, чем они звучали в сравнительно безмятежный период НЭПа. Багрицкий не был склонен к отвлеченному мышлению. Но, как всякий поэт Божиею милостью, он был наделен даром если не предвидения, то предчувствия. Тогда еще люди искусства не были так закабалены, – в Багрицком говорило не» осознанное предчувствие того, что их ждет впереди. Точно так же от событий, происходящих в «Думе про Опанаса», протягиваются нити к коллективизации, к раскулачиванию, к вымариванию Украины, осуществленному Сталиным в 1932—33 годах, и, наконец, к раскрестьяниванию России:
Опанасе, наша доля
Развеяна в поле!..
Однажды я не выдержал и спросил Багрицкого напрямик:
– Вы уже больше не напишете таких стихов, как «О соловье и поэте»?
Багрицкий серьезно задумался.
– Черт его знает!.. Может быть, и напишу…
И опять знакомая детски-лукавая беззубая усмешка и хитроватый прищур.
Этот разговор состоялся значительно позднее публикации триптиха «Последняя ночь».
А с каким упоением, несколько раз подряд, навзрыд распевал он мне Мандельштама:
Я пью за военные астры, за все, чем корили меня;
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня.
За музыку сосен савойских, полей Елисейских бензин,
За розу в кабине ролс-ройса, за масло парижских картин.
Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин…
Так можно читать стихи, близкие твоей душе своею «строчечной сутью».
В пропаганде поэзии, в пропаганде того или иного поэта Багрицкий больше всего доверял, во-первых, своему вкусу, умению выбрать для чтения то, что сразу возьмет слушателя в полон, а во-вторых, своему голосу, восстанавливавшему то, что ты не разглядел при чтении глазами, допевавшему то, чего ты не расслышал внутренним своим слухом. Мне он читал тех поэтов, которых я или совсем не знал, или знал худо, или в силу вкусовой недоразвитости недооценивал. Как-то раз он спросил меня, читал ли я Баратынского. Мне был известен Баратынский хрестоматийный, то есть как раз не характерные и не лучшие его вещи, вроде «Где сладкий шепот моих лесов?..»» Я уж не говорю о фольклоре, о русских поэтах XVIII века, но и книги поэтов прошлого столетия, и книги поэтов начала нынешнего века в большинстве случаев представляли собой до возникновения горьковского детища – «Библиотеки поэта» – библиографическую редкость. К таким дорогим «букинистическим» книгам рядовому любителю поэзии приступу не было. Ему оставалось только смотреть да облизываться, да пробавляться еще не окончательно дотрепавшимися в частных собраниях приложениями к «Ниве» или хрестоматийными и антологическими крохами. Собрания сочинений, даже таких первоклассных поэтов, как Баратынский, можно было найти преимущественно в больших книгохранилищах больших городов.
Багрицкий попросил меня достать из шкафа гржебинский однотомник Баратынского и раскрыл его на «Последнем Поэте»:
Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии ребяческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.
………………………………………………..
…Человеку непокорно
Море синее одно,
И свободно, и просторно,
И приветливо оно;
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.
Затем этот однотомник я с разрешения хозяина унес на несколько дней домой, и к числу моих «вечных спутников» в русской поэзии вскоре прибавился Баратынский.
Полонского я знал опять-таки хрестоматийного, Полонского – автора «Орла и змеи», «Бэды-проповедника», того, которого насмерть задекламировали на литературных вечерах в дореволюционной провинции. Багрицкий показал мне Полонского – свежего лирика с негромким, но своим голосом, особенного, «цыганского» тембра.
Улеглася метелица… путь озарен…
Ночь глядит миллионами тусклых очей…
Погружай меня в сон, колокольчика звон!
Выноси меня, тройка усталых коней!
покачиваясь всем корпусом в лад напеву, читал, или, вернее, пел Багрицкий, и я видел перед собой искрящееся снежное поле, я ехал в санях и сквозь полудрему слышал визг полозьев и заунывный звон колокольчика.