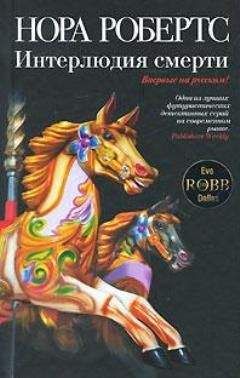Эрнст Юнгер - Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970
ВИЛЬФЛИНГЕН, 24–25 ОКТЯБРЯ 1968 ГОДА
Пересекаешь луг одуванчиков, переступаешь через пограничный забор, шагаешь дальше по лугу асфоделей, даже не подозревая, что тем временем сломал себе шею.
Пожалуй, не все так просто. В религиях есть свои станции для смены лошадей. У христиан «нисхождение в преисподнюю» предшествует «воскресению из мертвых».
Блаженный Августин в «Руководстве»[923] поднимает вопрос, могут ли покойники спастись благодаря «своего рода очистительному огню», а именно «быстрей или медленней, смотря по тому, больше или меньше они любили бренные вещи».
Григорий Назианзин в «Слове на праздник святых огней»[924] говорит о неком чистящем пламени, о «крещении пламенем, пожирающем материальное, как солому».
В тибетской «Книге мертвых» мертвец удаляется от своего трупа, от которого он, стало быть, отличается: лишь по сетованию близких он узнает о том, что умер. У египтян происходит похожее.
Такие перспективы должны были оказать влияние на способ погребения, сегодня тоже об этом задумываются. То, конечно, не столько мысли, сколько архаичные представления, поднимающиеся из глубины, когда какой-нибудь современник размышляет над тем, должен ли он быть похороненным или кремированным. Они обосновываются эстетически. Например: земля тяжелая, душная и грязная, появляются черви; огонь же, напротив, легок, чист, воздушен, он освобождает. Или: земля — это теплое, материнское жилище; огонь обжигает даже в представлении. Этруски думали так же; они возводили для мертвых подземные покои, чтобы те хорошо себя чувствовали. Еще и сегодня радуешься, заходя в них.
В царскую эпоху римляне тоже доверяли своих мертвецов земле. Могилы императоров, например, Августа или Адриана, построены по образцу больших этрусских курганов, какие сохранились под Черветери. Теперь они вырастали из земли, как башни, обсаженные наверху кипарисами. Богатые семьи, как семья Помпония Гила, погребали урны в глубоком склепе. Когда я спускался туда, мне казалось, будто я приближаюсь к источнику.
Они догадывались об освобождении в пламени, запускали орла над погребальным костром цезарей. Однако дань земле еще отдавалась тем, что они хоронили в ней какой-нибудь член тела покойника, предпочтительно палец. Рыцарь де Чилано в своем «Подробном рассмотрении римских древностей» (1776), к которому я возвращаюсь все снова и снова, характеризует это как злоупотребление и ссылается на то, что это запрещалось уже в Двенадцати таблицах[925]. Membrum abscindi mortuo dicebatur. Однако это предписание следовало бы причислить к законам для избранных, поскольку с ним было связано второе, дорогостоящее погребение. Во всяком случае, обычай был рудиментарен и отсылал к погребению как к исконной форме захоронения. При современной кремации покойников ритуалы тоже не полностью согласуются с огнем.
Рудольф Шлихтер рассказывал мне о швабских вольнодумцах, «Друзьях солнца». Может показаться, что они восхищались сожжением; тем не менее, это не так. Обоснование научно; они считали, что клетка — называли ли они ее исходной клеткой? — остается в покойнике носительницей жизненной силы. Разложение не может ее затронуть, а вот огонь, пожалуй, ее разрушает.
Платон тоже полагал, что что-то остается: когда труп, как представлялось, долгое время сохранялся без признаков разложения, это истолковывалось в том смысле, что душа еще не полностью покинула тело.
В этой связи Демокрит обращает внимание на продолжающийся после смерти рост волос и ногтей. Ему возражает Тертуллиан в своем сочинении о душе; он говорит там среди прочего, что рост ногтей является мнимым; его можно было бы объяснить ослаблением сухожилий, с которыми они связаны. Поскольку душа неделима, она не может удаляться из тела постепенно. Смерть и жизнь, дескать, связаны так же мало, как день и ночь.
На это можно было бы, конечно, возразить, что существуют сумерки. Одно событие в пределах его узкого круга, говорит этот Отец Церкви, правда, заставило его призадуматься. Некая христианка, умершая после образцовой жизни, на смертном одре при первых звуках заупокойной молитвы сложила руки и снова их опустила, когда молитва закончилась. Здесь все же можно бы предположить, что это произошло не благодаря еще наличествующим силам души, а благодаря непосредственному божественному воздействию.
Следовательно, можно догадаться, что Тертуллиан не придавал реликвиям большого значения. Однако у этого темного, образного ума, несмотря на его юридическую выучку, не следует искать слишком строгую последовательность.
Именно в мире реликвий сбивает с толку двусмысленность и многозначность, а также волшебство, которого не избежать никому.
«Нет в скорлупе сухой очарованья,
Где благородное зерно скрывалось.
Но мной, адептом, прочтено писанье,
Чей смысл святой не всем раскрыть случалось…
Как я пленялся формою природы,
Где мысли след божественной оставлен!
Я видел моря мчащиеся воды,
В чьих струях ряд все высших видов явлен.
Святой сосуд, — оракула реченья! —
Я ль заслужил, чтоб ты был мне доставлен?»
Гёте, при созерцании черепа Шиллера («Реликвии Шиллера»[926],1826).
Временами в реликвиях предполагали более мощную, также материальную, силу, чем сегодня в трансурановых элементах, но потом их опять сваливали в грязь. В нашу эпоху тоже заставляют задуматься такие факты, как спор между авгурами и археологами о «могиле Петра» или выставление в Москве напоказ мертвого Ленина в стеклянном гробу.
Прозрачные саркофаги есть и здесь, в Верхней Швабии, например, в красивой церкви Хайлигкройцталя; в них сохраняются скелеты; черепа и кости одеты в бархат и украшены драгоценными камнями. Как я недавно заметил, во время ремонта их удалили.
Reliquiae у римлян называли как человеческие скелеты и несгоревшие остатки жертвенных животных, так и экскременты, нечистоты, отбросы. «Трупы больше, чем навоз, заслуживают того, чтобы их выбрасывали»[927] — высказывание Гераклита. Я предполагаю, что оно было сформулировано им после поездки в Египет. Тем не менее, прежде чем согласиться, следовало бы поразмыслить над другой его максимой: «Давайте не будем походя судить о самом глубоком»[928].
Не каждый может полететь на Луну. Однако в путешествие, ведущее за пределы Сириуса, может пуститься каждый. Один видит здесь конечную точку, другой кульминационный пункт жизни; и то и другое с полным основанием, но это остается жутким.