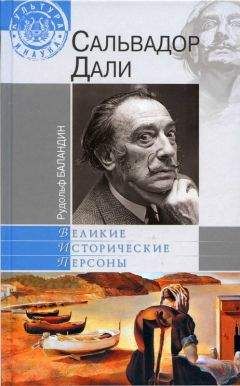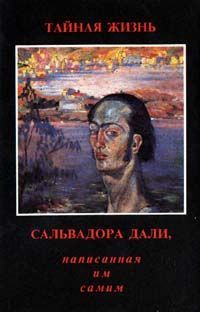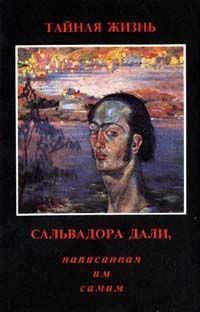Леонард Гендлин - Перебирая старые блокноты
На экземпляре книги она сделала дарственную надпись:
«Я очень рада, что вы пришли в Булгаковский дом, дорогой Леонард Евгеньевич! Елена Булгакова. Москва — 12.9.1962».
Главным редактором журнала «Москва» был малоспособный писатель, в прошлом чекист — Евгений Поповкин, человек с размахом и колоссальными связями. К нему домой я отнес рассказы — «Записки юного врача».
Через неделю мне прислали телеграмму с приглашением зайти в редакцию. С бьющимся сердцем поднялся на второй этаж старого арбатского дома. Заведующая отделом публицистики В. Шапошникова, благосклонно одарив меня дежурной улыбкой, попросила срочно подготовить «врезку» о Булгакове.
В майском номере журнала «Москва» за 1963 год появились рассказы Булгакова. Одновременно они были напечатаны в «Огоньке» № 21, а через месяц «Записки юного врача» вышли отдельным изданием в приложении к «Огоньку». На подаренном мне экземпляре Булгакова написала:
«Дорогому Леонарду Евгеньевичу Гендлину от Елены Булгаковой. 19.7.1963».
Елена Сергеевна щедро меня знакомила с архивом и литературным наследием Михаила Афанасьевича.
Первоначальный вариант романа «Консультант с копытом» Булгаков впервые прочел друзьям в августе 1928 года. Слушатели — актеры Художественного театра: Качалов, Москвин, Тарханов, Соснин, Топорков и секретарь дирекции Бокшанская.
Сохранилась копия письма Вересаеву и запись в дневнике:
«И лично я своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе».
В мае-июне 1938 года Ольга Бокшанская под диктовку Булгакова перепечатывает роман. Булгаков диктует и, как всегда, на ходу работает, правит. 2 июня пишет Елене Сергеевне, уехавшей с Сережей на дачу:
«Мы пишем по многу часов подряд, и в голове тихий стон утомления…» 15 июня: «Свой суд над этой вещью я уже совершил… Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно».
Летом 1938 года, тотчас по окончании перепечатки романа «Мастер и Маргарита», Булгаков принимается за инсценировку «Дон Кихота». Как вдохновенно и добросовестно работал Булгаков. Когда писал о Мольере, обложился книгами на французском языке. Переводя «Виндзорских кумушек», изучал английский. Елена Сергеевна рассказала мне, что, работая над инсценировкой «Дон Кихота», Булгаков изучал староиспанский. Он хотел услышать Сервантеса в оригинале. В конце июля писал Елене Сергеевне на дачу:
«…Работаю над Кихотом легко… Наверху не громыхает пока что, телефон молчит, разложены словари. Пью чай с чудесным вареньем, правлю Санчо, чтобы блестел. Потом пойду по самому Дон Кихоту, а затем по всем, чтоб играли, как те стрекозы на берегу — помнишь?»
Осенью 1939 года Булгакову стало совсем плохо. Он писал Александру Гдешинскому в Киев 28 декабря 1939 года:
«Ну, вот я и вернулся из санатория. Что же со мной? Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосет меня мысль, что вернулся я умирать».
В зиму 1939–1940 года его жизнь отсчитывает последние недели, дни, часы. Е.С. знала это — врачи не скрывали от нее. И Булгаков это знал — он был врач. Но и в эту последнюю зиму работал — почти не видя, изнуряемый физическими страданиями, уже почти не выходящий на улицу, потом не поднимающийся с постели…
И последнюю главу романа читала ему Е.С., преданнейшая из женщин. Прикрыв глаза, Булгаков вслушивался в текст и диктовал его заново:
«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки. Он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна…»
Он устал, умолк, фраза осталась незаконченной, и издатели романа предполагаемый конец фразы будут помещать в скобках…
…Когда жизнь ее сказочно переменилась, она жила уже не на улице Фурманова, а в новой, небольшой, очень уютной квартире на Суворовском бульваре, у Никитских ворот. После войны булгаковских вещей сохранилось немного, почти вся библиотека была распродана, но все равно он царствовал в ее доме. Огромный портрет его в овальной раме лишь в общих, внешних чертах напоминал его образ, но он оживал в ее рассказах. Елена Сергеевна с живостью передавала его юмор, его интонации. Смысл ее жизни был наполнен им, может быть глубже и сосредоточеннее, чем при его жизни.
Его смерть была для нее неподдельным, охватывающим всю ее горем. Не утратой, не потерей, не вдовьей печалью, а именно горем.
И оно было такой силы, что не придавило, а напротив — пробудило к жизни!
В этом нет ничего странного. Любви без воображения не бывает. Когда растворяется неизбежный житейский сор, возникает возвышенная чистота отношений, и они незаметно вырастают в легенду, которую отнюдь не следует разрушать. Внутренне сильные натуры, как она, подвластны такту самотворящего чувства, когда игру уже нельзя отличить от правды. Тут не было ни лжи, ни фальши. При нем она искренне притушевывала себя, готовая на повседневное подчинение. Отходила на второй план, иногда, быть может, молчаливо бунтуя и опять смиряясь.
Но она отнюдь не испытывала женского рабства, ибо он зависел от нее не менее, чем она от него. Это было добровольное и радостное подчинение. Когда оно вдруг кончилось, она вместе с потрясшим ее горем не могла не почувствовать какого-то высвобождения. В этом тоже не было ничего странного. Что-то все время сдерживаемое внутри, прорвалось. Она стала еще более общительней. Произошло что-то похожее на взрыв. Замкнутые в последнее время двери ее дома распахнулись, и сперва она была даже неразборчива в выборе новых друзей, случайных привязанностей, шумно нахлынувших знакомых. Осторожность и отбор их пришли позже, особенно когда поднялась волна интереса к творчеству Булгакова, к его биографии, а вместе с ними к ней…
Я поражался, с каким умом и тактом она вела булгаковские дела. Множество деловых людей стало появляться в ее доме: представители советских и зарубежных издательств, иностранные корреспонденты, агенты литературных фирм. И почти все ожидали встретить чуть ли не старуху, а их встречала изящная женщина, легкая, остроумная. Гостеприимство ее было обворожительно. Если надо было, она могла по-женски обхитрить кого угодно, притворяясь то беззащитной и милой хозяйкой, то лукавой хищницей.
В своей игре с людьми она была естественна — и в корысти и в беспечности… В ней была легкость, которая омрачалась лишь настигавшей ее старостью.