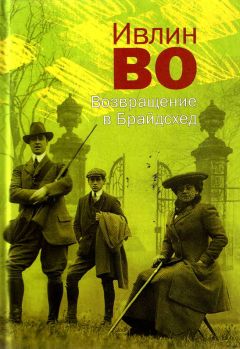Ивлин Во - Насмешник
Итак, сомневаясь, стоило ли начинать книгу таким образом; заканчиваю рассказ о наследственных качествах, коими наградили меня мои предки, и приступаю к истории собственной жизни.
Глава вторая
ДОМАШНИЙ КРУГ
Я родился поздней осенью 1903 года. Дом, в котором это произошло, запомнился мне не больше, чем само это событие. Он стоял в глухом переулке, называвшемся Хиллфилд-роуд и отходящем от Финчли-роуд, близ поля для игры в крикет; мы переехали оттуда, еще когда я был младенцем. При крещении мне дали имя Артур Ивлин Сент Джон: Артур — в честь отца, Ивлин — по прихоти матери. Оно мне никогда не нравилось. В Америке его дают только девочкам, и в Англии иногда случались недоразумения, путали мой пол. В частной школе насмешки по этому поводу я отбивал, говоря, что был такой фельдмаршал сэр Ивлин Вуд. (Как-то во время итало-абиссинской войны я посетил небольшой гарнизон, где давным-давно не видели белых женщин; военным сообщили, что едет «Ивлин Во, английская писательница». Весь немногочисленный офицерский состав, свежевыбритый, в отутюженной форме, вышел встречать меня с букетами цветов. Я был в полном замешательстве, они — в оцепенении смотрели на меня.) Последнее имя: Сент Джон — еще более нелепо. Мой крестный отец из высокой церкви настаивал, чтобы меня непременно назвали в честь какого-нибудь святого. Они могли бы оставить просто Джона (то есть Иоанна), но им понадобилась и приставка, обозначающая святость, видимо, чтобы подчеркнуть иллюзорную воцерковленность семьи.
В кильватерной струе психологических спекуляций нового поколения барахтается наивное любопытство к раннему детству человека. Год или два назад я подвергся интервью для телевидения. Моего интервьюера явно куда больше интересовала моя жизнь в младенческие годы, нежели какие-то позднейшие приключения. Вероятно, его задачей было показать публике влияния и переживания, которые сформировали характер писателя и отразились на его творчестве. Вот, к примеру, путешествия и служба в армии способствовали развитию во мне воображения. Но до таких вещей ему не было никакого дела. Вместо этого он жаждал докопаться до моих тайных детских несчастий и страданий. Но я его разочаровал. За исключением редких смутных проблесков, ничего не осталось в моей памяти от тех лет полной невинности — сплошной мрак, или, точней, одно ровное сияние счастья, лишь изредка омрачавшееся тенью легкой грусти.
Моего отца в детстве преследовали страхи и ужасы, те, что передались ему от его отца, и его собственные, выдуманные, к которым примешались ненароком подслушанные, байки слуг о злодеях и привидениях; ежевечерний ужас момента, когда нянька захлопывала Библию, гасила лампу и спускалась вниз ужинать; страх, порождаемый дедушкиными часами (такими знакомыми и дружелюбными в холле дома отца), которые громко хрипели, прежде чем начать бить. Бабушка — та вечно ожидала неминуемого конца света и боялась ада. Она тщательно следила, чтобы у моего отца не возникло тревоги по этому поводу. Но не могла уберечь его от затаенного страха разбить кофейную чашку, звук которой (никогда не слышал), как говорили, раздается в Корсли в годовщину внезапной смерти предыдущего приходского священника.
Я был совершенно свободен от чего-либо подобного. Вместо этого у меня сохранились несколько детских воспоминаний о событиях, вызвавших мой восторг — первые впечатления от моря и от снега, — что иные, более впечатлительные гонцы, передают в стишках.
Первое яркое воспоминание осталось у меня от камеры-обскуры на пирсе в Уэстон-сьюпер-Мэр. В тот день, как мне потом рассказали, со мной произошел нелепый и почти фатальный случай. Я откусил яйцо вкрутую, и тут желток вдруг выстрелил из своей белой оболочки и попал мне прямо в горло. Я стал задыхаться, весь побагровел. Меня хлопали по спине, трясли, подняв за пятки. Твердый шар с равным успехом мог выскочить обратно, провалиться в желудок или застрять в глотке и задушить меня. Он провалился. Мне довольно часто напоминали, какого переполоху я наделал. Я же единственное, что запомнил о том пикнике, — это ярко освещенную круглую столешницу в темной хижине, в которой таинственно двигались отражения проходивших мимо отдыхающих.
Еще я помню короткое горькое разочарование, когда подох мой кролик. У него образовалась опухоль в челюсти, и его отправили к ветеринару, чтобы усыпить. Мне все объяснили, и я смирился с потерей. Но ветеринар по собственной инициативе решил прооперировать его. Через неделю он вернул кролика, заявив, что тот здоров. Я был в восторге, но в ту же ночь кролик подох.
Еще мне рассказывали, что года в четыре или пять я устроил истерику отцу, который после целого утра, проведенного нами на ярмарке в Хэмпстед-Хите, где он ни в чем мне не отказывал, собрался отвести меня домой ко второму завтраку. Я катался по песчаной дорожке, вопя: «Скотина, гад, тварь безмозглая!», что с тех пор стало присказкой в нашей семье. Это единственный у меня неприятный случай в раннем детстве, которое вспоминается мне, как райское время — теплое, светлое, безоблачное и совершенно лишенное каких-либо особых событий, — когда я жил, радостно повинуясь законам, установленным двумя обожаемыми божествами, няней и матерью.
Няня, хотя я не отдавал себе в этом отчета, была очень молода и, как мне казалось, очень красива. Ее взяли из Чилкомптона, деревни под Мидсомер-Нортоном, а ее сестра была няней двух моих кузин, с которыми я проводил бо́льшую часть каникул. Она носила форму, как все няни в те времена, но мы всегда звали ее по имени, просто Люси. До 1914 года все наши служанки были из мест, где практиковал мой дед, и ни одна не ушла от нас, кроме как выйдя замуж. Многих брали из кружков по изучению Библии, которые вели мои тетки. Люси не могла быть одной из них, поскольку принадлежала к методистской церкви. Думаю, ее огорчало, что моя матушка играла в бридж, а отец не отказывал себе в бокале вина, но она не отвечала за их спасение. Я был слишком мал для подобных соблазнов. Но меня водили в театр, и, когда я возвращался домой, она демонстративно не обращала внимания на мои восторженные рассказы об увиденном. Ее отец выбился из батраков в мелкие фермеры и развозил по окрестным усадьбам молоко; иногда, что было редким и радостным событием для меня, я сопровождал ее брата и держал вожжи, пока он наливал молоко из бидона в кувшины. У меня не было ни малейшего сомнения, что отец Люси — безгрешный человек. Я не мог даже сравнивать его с моим отцом. Отец Люси был святой и герой, так что какие тут могли быть сравнения. Лишь однажды он показал свой гнев, когда ее брат из озорства спугнул наседку и разорил кладку, да и то он лишь потому разгневался, что это была соседская наседка. Подобно большинству нянь Люси постоянно читала Библию. Нельзя сказать, что она выискивала нравоучительные цитаты. Она читала все подряд: Родословие, Законы и малых пророков, одинаково веря им всем в их животворных пророчествах. Ежевечернее чтение продолжалось полгода, после чего она вернулась к началу, Бытию, и все повторилось. Годы спустя, во Вторую мировую, я с еще двумя отчаянно скучавшими англичанами оказался в Хорватии запертым из-за снежных заносов в том, что мы называли «очаг сопротивления». У нас было несколько книг, и среди них — Библия. Один из нас был не в меру говорлив и большой спорщик. Чтобы как-то его угомонить, мы заключили с ним пари, что он не сможет прочесть всю Библию целиком. Он был мало знаком с Писанием. Три благословенных дня он был погружен в чтение, прерываясь только на то, чтобы поделиться с нами новыми истинами, которые открылись ему. Но Левит его доконал. Он бросил читать и заплатил проигрыш. Люси была не такова. Для нее сам этот обширный том был объектом поклонения, с которым она обращалась с особой осторожностью. Никакая другая книга не могла сравниться с Библией.