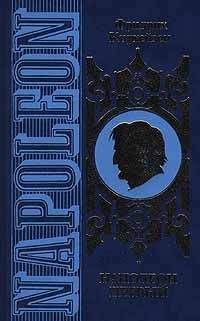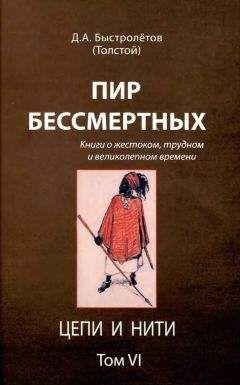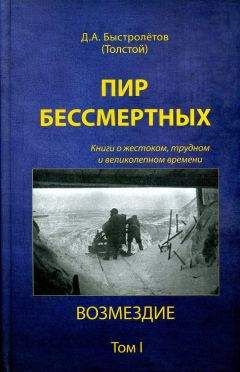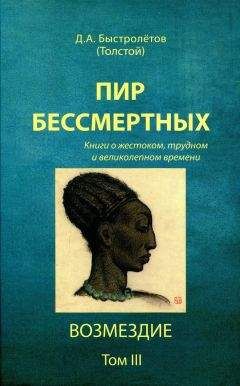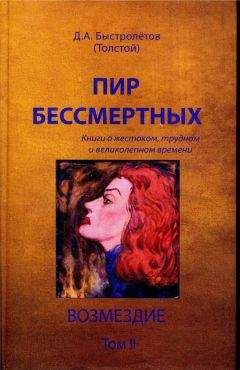Дмитрий Быстролётов - Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Цепи и нити. Том V
— Вашей картине место только у меня, в моем пражском Доме Службы Обществу. Заметьте, я не выпускаю дорогой обуви, мои покупатели — трудовой народ! Вот эти руки, — мсье Татя вытянул вперед крепкие жилистые руки, — опасные, как стальные вилы, эти руки жаждут труда. Я предложил Советскому правительству великодушную сделку. Я построю в СССР завод, который выпустит сто девяносто миллионов перочинных ножей, по одному ножичку на каждого жителя страны. На ручке будет надпись: «Нет советского гражданина без ножичка Тати», а когда последний советский гражданин купит последний нож, я дарю мой завод Советскому государству. Великодушно, а?
— Вы рассказываете удивительные вещи! Ну и что же?
— Ничего! Коммунисты отказались, потому что их головы забиты устаревшими теориями, равно как и у подавляющего большинства капиталистов. Я чувствую себя пророком Нового Слова, и священное пламя горит во мне! Многие правительства борются со мной высокими пошлинами, но я буду открывать свои заводы в разных странах и подниму производство до полумиллиона пар обуви в сутки, потом до миллиона и больше, пока не осуществлю заветную цель — каждому человеку на земле — пару ботинок Тати!
Светло-серые круглые глаза блестели, крупный нос, загнутый книзу крючком, делал капитана промышленности похожим на большую сову, готовую рвануться вперед за добычей. Мсье Татя размашисто подписал договор о купле-продаже картины, положил чек на сто тысяч чешских крон и, гордо закинув голову, протянул мне свою руку-вилу.
Ликвидация всех расчетов по картине заняла около месяца. Затем я получил от Чехословацкого бюро целую кучу вырезок газетных статей о моем детище. Были приложены и переводы. Большое количество отзывов меня приятно поразило, но, перечитывая заметки и статьи, я не мог не обратить внимания на три обстоятельства: все они были выдержаны в тоне восторженных похвал, все упоминали о ста тысячах крон и все призывали читателей с женами и детьми отправиться в Дом Службы Обществу и лично убедиться в высоких качествах моего эпохального произведения. Мой нос, натренированный в Америке, почуял неприятный запах рекламы, и я немедленно отправился в Прагу, где в это время мой приятель по монпарнасским кафе мсье Окордоннье методом женитьбы на чешке изучал чешский язык и обещал мне всяческую помощь.
В центре города находится длинная, широкая Вацлавс-кая площадь, в нижней ее части, среди серых домов в довоенном стиле, высилось многоэтажное здание, построенное из бетона и стекла. Оно пылало жаром ярко освещенных стен-витрин. Наверху ослепительно сияло название: Дом Службы Обществу. Пониже мигал и кривлялся красный свет, печатавший в мозгу прохожих странную фразу: «Наш покупатель — наш господин». Издали я увидел черную массу народа, которая напирала на широкий вход. Что-то екнуло в груди. Я ринулся вперед, у входа дюжие служители подсчитывали входящих, раздавая красные или зеленые талоны. Мне сунули зеленый.
— Что это такое? — спросил я по-немецки.
— Каждый пятидесятый посетитель получает зеленый талон на бесплатный стакан лимонада, а каждый сотый — красный талон на бесплатное мороженое!
В зале была выставлена моя картина. Около нее суетились со стаканчиками лимонада и мороженого люди. Перед картиной на низких стендах были разложены новые образцы ботинок и туфель. Крики продавцов и музыка из нескольких репродукторов, смех и говор — все это вначале оглушило меня, но я заметил, что за картиной идет очень бойкая торговля. Наконец, случайно мой взгляд упал на полотно, и я оцепенел от ужаса: чья-то опытная рука заменила слова, начертанные на обелиске, который водружали мои герои труда. Теперь там крикливо лез в глаза призыв — «К гуманности — в обуви Тати!».
— Да поймите вы, уважаемый маэстро, поймите, наконец. Вы вышли на рынок и предложили товар, что не только разрешается, но и защищается законом. Затем вы совершили законную сделку купли-продажи, расписавшись вот на этом документе вместе с покупателем, что также не только разрешается, но и защищается законом. Покупатель честно выплатил вам обусловленную сумму, и вы подтвердили это распиской. Теперь ваш товар стал собственностью покупателя. Собственностью! Вещью, которой владелец может пользоваться по своему усмотрению вплоть до ее полного уничтожения! Ну что же здесь непонятного?
Пражские и парижские адвокаты разводили руками. Они повторяли эти слова снова и снова, сначала вежливо и терпеливо, потом с нескрываемым раздражением; всех удивляла и злила моя непонятливость.
Рынок… Товар… В конце концов, я все понял. Недаром голландцам нельзя рассказывать анекдотов в пятницу, видно, я был настоящим сыном Сырочка…
Наступили похороны Нового Слова.
Вывести из мастерской огромную картину было непросто, ее установка в выставочном салоне потребовала много времени и сил. Потом я был занят Татей, поездкой в Прагу, адвокатами и последним взрывом ярости. Наконец все это закончилось. Мастерская с голой задней стеной казалась мне обезглавленным трупом, возвращаться туда ночью было тяжело и противно, кстати, я возвращался туда лишь по утрам, обычно сильно навеселе и не один. Но время шло, пора было кончать.
В тот день я с раннего утра начал работу и провозился до ночи. В парижских квартирах нет больших печей, жечь крупные и мелкие эскизы было негде, а их набралось немало. Когда я стал потрошить папки, ворошить груды бумаги и холста — вещественные доказательства моей профессиональной честности и силы недавнего творческого порыва, я не скрежетал зубами, никого не проклинал и никому не угрожал: просто тащил всё на середину комнаты и, положив картон или холст на массивную подставку для натурщиков, служившую на этот раз плахой, аккуратно всё рубил топором. Для тех, кто никогда в жизни ничего не творил, бесполезно описывать, что чувствует художник, уничтожая собственными руками плоды своего восторга, надежд, любви и вдохновения. Чувствовал ли я то же, что и обманутый любовник, убивающий некогда любимую женщину? Нет. Меня никто не обманул. Я — настоящий художник, теперь, как никогда раньше, я твердо знал, что я способен в искусстве сделать большое. В одинокой мастерской я стоял один, сгорбившись и подавленный несчастьем, несчастьем родиться в этот век, когда великое не нужно и невозможно. Я ошибся, но не в себе, а в эпохе, в которой живу. Не следует рубить руки, способные и не нужные. Это глупо, а тщательно и любовно проработанные эскизы следует рубить, их некому продавать и незачем дарить. Я ломал картон на ленты, сворачивал холст в трубки и рубил их двумя-тремя ударами топора. Груда эскизов уменьшалась, а груда обрывков и обрезков росла. Закончил работу вечером: мусор был аккуратно собран у входной двери, туда же я поставил ящики с начатыми тюбиками красок, с остатками карандашей, углей, сангины и мелков. Сверху бросил старые кисти, палитры, бутылочки с разбавителями и лаком. С Апофеозом труда все было кончено. Я еще не знал, что мне делать с мастерской, но видеть всё, что напоминало о недавно пережитом, было нестерпимо. Наверное, уеду из Парижа… Куда?.. А не все ли равно. В Берлин… куда-нибудь еще… увидим… Спина болела, я устал. На одном мольберте стоял уцелевший лист белого картона. Я подошел и облокотился. Завтра позвоню, чтобы за мусором прислали грузовик… Нужно пораньше, часов в восемь… Незаметно я взял палочку угля и стал рисовать, просто так, чтобы занять руки. Почему-то получился ботинок, щегольски модный ботинок. Думая о другом, я стал отделывать рисунок. Ботинок рождался на глазах, новый, с добротной подошвой, ярко-ярко начищенный. Я рисовал и думал, облокотясь левой рукой на мольберт, слезы струились из глаз, быстро стекали по щекам и падали на картон, а потом на блестящий ботинок и дальше вниз. Не было трагических рыданий, не было слов, даже не было соответствующих плачу движений и позы. Просто молодой художник стоял около груды изрубленных им своих вещей и тихо плакал, плакал, рисуя ярко начищенный бессмысленный ботинок.