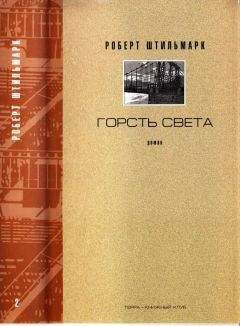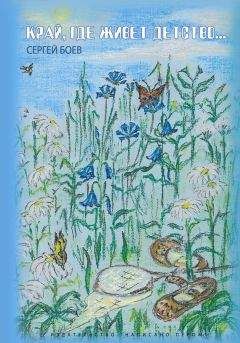РОБЕРТ ШТИЛЬМАРК - ГОРСТЬ СВЕТА. Роман-хроника Части первая, вторая
Женщина не сразу смогла и в толк взять, за что чужой офицер пытается вручить ей синий кредитный билет, А когда уразумела, наотрез отказалась взять деньги:
— Нет, нет, пан офицер! Если все то есть чистая правда, и вы не посмеялись над моей простотой, отдайте деньги в церковь, на голодных беженцев. А мы с дочерью еще, слава Богу, не в столь горькой нужде!
* * *
Почти год спустя Алексей Александрович вернулся в свое пыльное Иваново, к Ольге, к детям — было их уже двое.
Из писем он знал, что жена перенесла серьезную операцию, а насколько она была тяжела, признался ему потом за рюмочкой сам хирург.
— Рискнул резать, потому что иного спасения уже не видел. Перитонит начинался. Сказать по правде, и на операцию надежды оставалось маловато... И вдруг, — сам уж не знаю как, поправляется и выздоравливает моя «безнадежная»... Верно, есть на свете какие-то силы и сверх нашей врачебной власти, дорогой мой!
3
А третий раз пропало кольцо неведомо как, в тридцать восьмом.
И хватились не сразу, потому что давненько стало спадать оно с похудевших пальцев Алексея Александровича, и опасаясь носить его, держал он кольцо в домашней шкатулке. Когда там его не оказалось, искали не очень прилежно, думали, что рассеянный профессор-химик сам переложил свою реликвию куда-нибудь в другое, более надежное место, да и позабыл, в какое именно.
Ему-то однако вовсе и не до того было.
В Наркомате становилось работать все труднее. Каждый день вывешивали на доске очередной приказ наркома об «исключении из списка сотрудников» таких-то и таких-то работников такого-то Главного управления. Как правило, эти «исключенные из списка» были самыми знающими инженерами, партийными руководителями или высшими администраторами. Врагами народа уже были официально, на общем собрании, объявлены оба предыдущих наркома. Одного из них Алексей Александрович знал несколько ближе, нарком давал ему ответственные поручения и на заседаниях Коллегии всегда был подчеркнуто внимателен к мнению профессора Вальдека...
Эти мысли тревожили профессора днем, в стенах Наркомата.
Вечером же, в Институте текстильной химии, наступала пора новых тревог, весьма, впрочем, схожих с наркоматскими. И здесь, как и в Главном управлении, не проходило и недели, чтобы не сорвалась лекция, не отменены были семинарские занятия, не пустовал бы чей-нибудь стул на заседании деканата. Как и в Наркомате, здесь, в Институте, испуганным шепотом называли фамилии коллег и знакомых, с кем еще на днях вместе уезжали с занятий, подвозя друг друга на наркоматской «эмке» или на такси. То и дело отменяли экзаменационные сессии, вычеркивали фамилии экзаменаторов, членов Государственной комиссии, руководителей кафедр, членов парткома; переносили сроки занятий, торопливо меняли расписание лекций, подыскивали других консультантов студентам-дипломникам. И тоже вывешивали приказы: «исключить из списков института»...
Сам профессор Вальдек продержался до февраля 1938-го. Уже казалось многим, что может, неведомо почему, обошла угроза его седую голову. Кто-то пустил даже зловещий слушок-шепоток, дескать, может, мол, и не все ладно с этим профессором. Уже кое-кто осторожно вопрошал, приставив к уху коллеги ладошку трубочкой, не рискованно ли строить догадки вслух в присутствии профессора, а тем более, выражать неуверенность насчет чьей-то виновности или, не дай Бог, еще и сочувствие к семье арестованного...
Так прошли осень и зима злого года — страшнейшего в истории России. Год новый встречали в узком семейном кругу — приходилось остерегаться даже нечаянной фразы во время застолья, да и просто избегали люди заглядывать друг к другу. А то сядут знакомые за общий стол — глядишь, уже сляпано дело об антисоветской организации, по статье 58-ой, пункт 10—11...
Только никак не могла профессорская совесть извлечь из глубин памяти чего-либо стыдного или недоброго, сколько ни перебирал он месяц за месяцем всю свою полувековую сознательную жизнь. Разве что принадлежность в прошлом к царскому офицерству? Однако, ведь сами солдаты-гренадеры избрали его в дни февральской революции командиром артиллерийской бригады, на место нелюбимого прежнего командира, полковника старой закалки. После же революции Октябрьской солдаты вновь утвердили Алексея Александровича в той же командной должности, и суровый к иным офицерам ревком выражал ему, командиру, полное доверие и уважение вплоть до расформирования бригады в начале 1918 года.
Потом, в самую разруху, командовал он военизированными частями в тылу, а после окончательной демобилизации пошла жизнь в лабораториях и цехах, в аудиториях и кабинетах.
Отмечали и премировали за десяток изобретений. Построено в стране пятнадцать фабрик по его проектам. Еще больше проектов консультировал, исправлял, переделывал — и для Баку, и для Ташкента, и для Анкары, куда его даже посылать собирались.
И студенты любят своего профессора за доброту и строгость, за бескорыстие и щедрость. Да еще и за редкой мягкости баритон, звучавший столько раз на вечерах институтской самодеятельности...
В самом деле, не может же быть, чтобы брали вовсе уж без разбору, вслепую. Допустимо предположить и отдельные перегибы (оно в России — не впервой!), скажем, перегибы административные, следственные, судебные, но... не всему же лесу лететь щепками, коли идет рубка? Рубится-то светлое здание социализма, впервые в мире! А социализму нужны такие ученые, как профессор химии Алексей Вальдек!
Не оправдались оптимистические прогнозы, утихли подозрительные шепотки! Не минула и профессора общая судьба лучших его товарищей и ближайших коллег.
Зимней вьюжной полуночью жена пошла открывать парадную дверь на долгий звонок и тусклый голос дворника:
— Телеграмма вам, Ольга Юльевна! (Добропорядочная наивность профессорской семьи априори исключала надобность в приемах более тонких!).
Вошли трое, и сразу — к письменному столу. Профессора подняли из постели. Велели одеваться. Предъявили неряшливо и малограмотно написанный ордер. На арест и обыск...
И сразу же пошли рыться, сбросив на шахматный столик в углу два полувоенных пальто и кожаный, на меху, реглан. Только дворник как вошел в телогрейке, так и присел в ней у окошка, не расстегнувшись, не глядя ни на что творящееся в комнатах. Приоткрыл слегка занавеску, и все время, пока происходил обыск, всматривался в игру снежинок за оконным стеклом. Он не первый раз исполнял в доме роль понятого, с каждым разом все менее понимая происходящее, а сейчас и вообще испытывал нечто похожее на ноющую сердечную боль: сам необразованный и незадачливый, он уважал науку и понимал положение в ней Алексея Александровича Вальдека лучше, чем любой из трех оперативников и все они, вместе взятые.