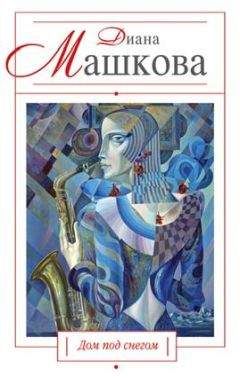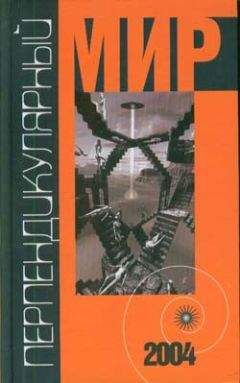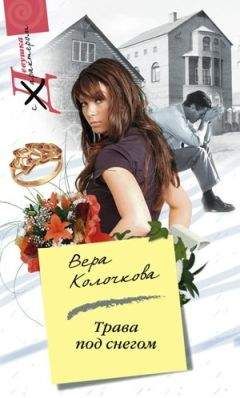Сборник - «С Богом, верой и штыком!» Отечественная война 1812 года в мемуарах, документах и художественных произведениях
С другой стороны представилось нам трогательное зрелище. Несчастные жители, бедные граждане, старцы и жены, в слезах, с отчаянным воплем выбегали из города через мост и, поднимая руки к небу, взывали горестно: «Где ты, наша матушка! Чудотворная икона!» Эта икона Смоленской Божией Матери заблаговременно была вывезена из города, в продолжение ретирады к Москве ее везли в общем парке артиллерии, на запасном лафете батарейной роты полковника Воейкова.
Немало жителей погибло в городе и на мосту. Это бедствие казалось им светопреставлением, а Наполеон сущим Антихристом, с воинством дьяволов.
С берега Днепра смотрели мы на пылающий город, и невольный трепет сердца показал нам, что мы еще слабы числом против сильного завоевателя. В 9 часов вечера стрельба утихла – русские удержались в городе.
В Смоленской битве наши войска показали пример отчаянного сопротивления. Может быть, здесь они в состоянии были бы остановить стремление неприятеля, если б бой продолжился, ибо в целый день, при всем усилии, французы не могли овладеть городом. В армии носились слухи, что по окончании этой кровопролитной битвы старшие генералы русские упрашивали главнокомандующего, чтобы еще хотя на один день замедлил сдачей города, представляя в уважение ему расстройство неприятеля; они ручались за успех твердостью русских солдат, готовых до последнего погибнуть в развалинах Смоленска или истреблением неприятеля спасти Отечество. Но главнокомандующий имел больше причин поступить иначе – он приказал ретироваться.
И. Жиркевич
Записки
В то время, когда происходила самая жаркая битва в Смоленске, который переходил на глазах наших несколько раз из рук в руки, и когда город весь был объят пламенем, я увидел Барклая, подъехавшего к батарее Нилуса и с необыкновенным хладнокровием смотревшего на двигавшиеся неприятельские колонны в обход Раевского и отдававшего свои приказания…
Но какая злость и негодование были у каждого на него в эту минуту за наши постоянные отступления, за смоленский пожар, за разорение наших родных, за то, что он не русский! Все, накипевшее у нас, выражалось в глазах наших, а он по-прежнему бесстрастно, громко, отчетливо отдавал приказания, не обращая ни малейшего внимания на нас.
Тут вдруг увидели, что на мостах переходят войска наши на эту сторону Днепра, за ними толпой тащатся на повозках и пешими бедные смоленские обыватели. Резерв наш передвинулся за пять верст на дорогу, идущую в Поречье, и две батарейные роты наши заняли возвышение вперерез большой дороги, а позади расположились гвардейские и кавалерийские полки. Толпы несчастных смолян, рассыпавшихся по полю без крова, приюта, понемногу собирались сзади, около нас, чтобы продолжать далее свое тяжелое странствование. Крики детей, рыдания раздирали нашу душу, и у многих из нас пробилась невольно слеза и вырвалось не одно проклятие тому, кого мы все считали главным виновником этого бедствия.
Здесь я сам слышал, своими ушами, как великий князь Константин Павлович, подъехав к нашей батарее, около которой столпилось много смолян, утешал их сими словами: «Что делать, друзья! Мы не виноваты. Не допустили нас выручать вас. Не русская кровь течет в том, кто нами командует. А мы – и больно, – но должны слушать его! У меня не менее вашего сердце надрывается!»
Когда такие слова вырвались из груди брата царева, что должны были чувствовать и что могли говорить низшего слоя люди?
Ропот был гласный, но дух Барклая нимало не колебался, и он все хранил одинаковое хладнокровие; только из Дорогобужа он отправил великого князя с депешами к государю, удостоверив его, что этого поручения, по важности, он никому другому доверить не может. Великий князь, как говорят, рвал на себе волосы и сравнивал свое отправление с должностью фельдъегеря. В этом случае Барклая обвинять нельзя. Трудно повелевать над старшими себя и отвечать за них же.
П. Багратион – А. Аракчееву
Милостивый государь граф Алексей Андреевич!
Я думаю, что министр (М. Б. Барклай де Толли. – Ред) уже рапортовал об оставлении неприятелю Смоленска. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии. Это самое важное место понапрасну бросили. Я с моей стороны просил лично его убедительнейшим образом, наконец, и писал, но ничто его не согласило. Я клянусь Вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он бы мог потерять половину армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удержал с 15 тысячами более 35 часов и бил их, но он не хотел остаться и 14 часов. Это стыдно и пятно армии нашей, а ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно. Ежели он доносит, что потеря велика, – неправда; может быть, около 4 тысяч, не более, но и того нет. Хотя бы и десять, как быть – война. Но зато неприятель потерял бездну. Наполеон как ни старался и как жестоко ни форсировал и даже давал и обещал большие суммы награждения начальникам только ворваться, но везде опрокинуты были. Артиллерия наша, кавалерия моя, истинно, так действовали, что неприятель стал в пень. Что стоило еще оставаться два дня по крайней мере; они бы сами ушли, ибо не имели воды напоить людей и лошадей. Он дал слово мне, что не отступит, но вдруг прислал диспозицию, что он в ночь уходит. Таким образом воевать не можно, и мы можем неприятеля привести скоро в Москву. В таком случае не надо медлить государю: где что есть нового войска, тотчас собрать в Москву, как из Калуги, Тулы, Орла, Нижнего, Твери, где они только есть, и быть московским в готовности. Я уверен, что Наполеон не пойдет в Москву скоро, ибо он устал, кавалерия его тоже, и продовольствие его нехорошо. Но на сие и смотреть не дóлжно, а надо спешить непременно готовить людей, по крайней мере 100 тысяч, с тем что, если он приблизится к столице, всем народом на него навалиться, или разбить, или у стен Отечества лечь. Вот как я сужу, иначе нет способу.
Слух носится, что Вы думаете о мире, чтобы помириться. Боже сохрани! После всех пожертвований и после таких сумасбродных отступлений – мириться! Вы поставите всю Россию против себя, и всякий из нас на стыд поставит носить мундир. Ежели уж так пошло – надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах, ибо война теперь не обыкновенная, а национальная, и надо поддержать честь свою и все слова манифеста и приказов данных; надо командовать одному, а не двум. Ваш министр, может, хороший по министерству, но генерал не то что плохой, но дрянной – и ему отдали судьбу всего нашего Отечества! Я право с ума схожу от досады, и простите меня, что дерзко пишу. Видно, тот не любит государя и желает гибели нам всем, кто советует заключить мир и командовать армией министру. Итак, я пишу Вам правду. Готовьтесь ополчением, ибо министр самым мастерским образом ведет в столицу за собой гостя.