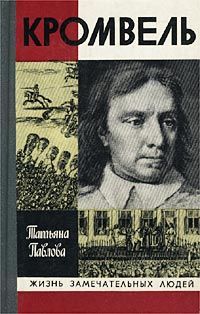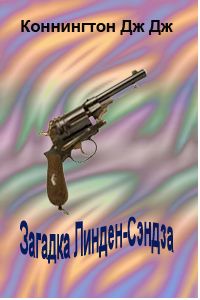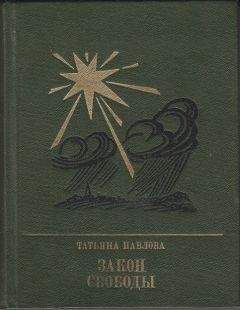Сергей Волконский - Человек на сцене
Мы ничего не сказали о диалоге. С того момента, как на сцене не один человек, а два, интересно только одно: в каком отношении они стоят друг к другу; интересен ни один, ни другой, а то третье, что родится от их одновременного присутствия на сцене; важен не тенор, не баритон, важен дуэт. И в самом деле, что может быть великолепнее горячо веденного диалога, этого словесного здания, которое на ваших глазах встает из ничего от дружного, или вернее, — враждебного сотрудничества двоих; когда один другому перебегает дорогу, один другому строит западни, один другого подкапывает, проваливает, и тут же взвивает на дыбы; где ни вы не знаете, что будет, и ни один из двух не знает, что скажет другой; где, что ни слово, то новизна, — новый поворот, новый наклон, новое препятствие, новый удар! Голос, который отступает перед ужасом слышанного, собирается, горбится, чтобы ринуться, как тигр. Удар кулаком по столу, швырнутая книга… А молчание! Молчание, в котором клокочет будущий ответ; или молчание подавленное, безвыходное, — туча нависшая… спина, медленно поворачивающаяся к двери… и вдруг — внезапный поворот под вздержкой негодования, и — сцепка, сцепка речи мелкой, рубленной, когтистой, впивающейся, сливающейся в восхитительный хаос неразличимых слов и сверкающих интонации. Да можно ли хладнокровно говорит об этом, когда любишь театр! Увы, дуэт в диалогах я видал только у наших стариков [10]. У нынешнего поколения, когда двое на сцене, выходит не диалог, а два монолога.
Часто читаем в рецензиях: «не было общего тона, не спелись, видимо не срепетовано». Слова, слова, слова! Да и можно ли ждать суждения, а не слов от людей, которые пишут, что «пьеса выигрывает даже больше в чтении, чем на сцене», или, что «сезон приближается к началу», или, что в «Русалке» ансамбль (знаменитый «ансамбль») был так хорош, что «Пушкин и Глинка остались бы довольны исполнением их детища», или, что в «Виндзорских Кумушках» Варламов исполнял… (как вы думаете, что?) — заглавную роль [11]. Не в том дело, что не срепетовано, а в том, что репетиция есть лишь совместное упражнение памяти; самое слово принимается в его буквальном значении: «repetere — повторять»; но может ли из повторения выйти какое-нибудь созидание? Сцепки нет, взаимного заражения нет; нет восхождения, нагромождения реплик; реплика идет от своей же предшествующей реплики, вместо того, чтобы нарастать в молчании, во время реплики партнера; игра молчания не существует, перемена ветра, — предвестник ответа, — не ощущается; каждый выучил и ведет свое, но даже, когда он хорошо выучил свое, он говорит, не разговаривает; у него и жар будет, но это будет для себя, перед самим собой, он будет говорить с партнером убежденно, но не убеждающе. Не будет, не родится то «третье», что должно родиться от встречи двух: будет кремень и будет сталь, — будет два монолога, но не будет искры, — не будет диалога.
Вот в общих чертах мои наблюдения над ошибками нашей актерской техники, ошибками, которые можно определить частью, как техническая недоделка, частью, как ложно понятая отделка. Одно, последнее замечание. Мы сказали в самом начале: «На сцене должно говорить, как в жизни», и «на сцене не должно говорить, как в жизни». Эти два правила имеют каждое свое поле применения, но беда в том, что актер посредственный ухитряется погрешать против обоих. Как раз то, в чем бы надо согласоваться с жизнью, то он делает «по театральному», а где бы надо от ошибок жизни отступить, или подняться от земли, там он повторяет жизнь. Дело в том, что труднее сказать на сцене: «Здравствуйте, Иван Иванович», чем — «Боярин, бью тебе челом». Добиться говора естественного, такого, каким говорят в жизни, требует упорного труда. Но с другой стороны, сказать: «Для берегов отчизны дальной ты покидала край чужой» гораздо труднее, чем сказать: «Она уехала из Ниццы, с норд-экспрессом, в Петербург». Добиться речи звучной, теплой, чеканной, такой, какою в жизни не говорят, такой, которая, по выражению той крестьянской бабы, звучала бы «лучше, чем на земле», — требует упорного труда. Больше же всего требуется труда на то, чтобы спрятать самый труд, — чтобы, по выражению Леонардо да-Винчи, «il lavoro sia immascherato» [12]. И какие бы удивленные глаза ни раскрывали люди, когда им это говорят, всякий искренно любящий сцену и понимающей, что в своих особенностях она подчиняется общим требованиям искусства, знает, что, чем естественнее игра, тем больше под нею труда.
В двух словах хочу сомкнуть все сказанное.
Все, что я говорил о жесте и о голосе, ведет к провозглашению двух одинаково важных на сцене начал: жизнь и красота.
Жизнь — это та правдивость, та искренность, та похожесть, которая заставляет нас верить в происходящее на сцене.
Красота… Вы, может быть, заметили, что ни разу я не упомянул даже слова «обстановка». Не ту красоту я разумею, которую несут на сцену другие, помимо актера, не ту, которую несут в драму художники, декораторы, балетмейстеры, осветители, музыканты, костюмеры, и в которой актер, вместо того, чтобы быть творцом красоты, является каким-то квартирантом чужой красоты. Подумайте, что всякая красота на сцене — поддельная. Мраморные храмы? — холст! Деревья? — марля! Цветы? — картон. Вода? — кисея! Звезды небесные? — электрические лампочки! И только одна есть подлинная красота на сцене — человек: человеческое тело и его движения, человеческий голос и его слова. Подумайте, сколько времени, сколько труда кладут другие художники на достижение той красоты, и подумайте, сколько надо труда и времени на то, чтобы нам свое живое, движущееся, вечно меняющееся тело подчинить нашему художественному сознание. Отчего мы в первую минуту по поднятии занавеса очарованы бываем декорацией, а затем так скоро все это приедается? Оттого, что вошел, заговорил человек. И не только потому, что человек трех измерений, а декорации — двух, но потому, что человек не та вершина красоты, которая должна увенчать окружающую красоту. Будьте уверены, когда на сцене великий артист, вокруг него нет ничего смешного: вся обстановка за ним уходит — где ей и следует быть — на второй, десятый план, и вместо того, чтобы быть воспроизведением действительности, становится лишь напоминанием о ней…
И когда актер станет этой сияющей вершиной красоты, когда на нем будут сливаться все наши радости зрительные, слуховые, умственные, сердечные, душевные, — тогда раздвигающийся занавес будет раскрывать пред нами правдивые картины несуществующей действительности; тогда сдвигающийся занавес будет медленно похищать от наших взоров невозвратимые видения того, что было, но не может быть; и когда последняя щелка завесы сомкнется, потухнет последний просвет в то лучезарное «Иное», которого нет на земле, — тоска обнимет душу нашу. И, вернувшись в наши будни, возвращенные в нашу суконную действительность, мы вспомним, как мы, осиротелые, стояли перед жестоким занавесом, и вместе с Тургеневым мы скажем: «Но как мне было жаль исчезнувших богинь!»…