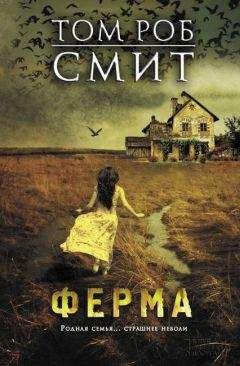Владимир Крупин - Выбранные места из дневников 70-х годов
14 мая. Дни, недели неписания.
Сейчас с вечера в Доме книги. Мне нравится из теперешних поэтов Егор Исаев. Часто слушал его, читает, говорит уверенно и вместе с тем душевно. Сегодня о неуверенности писателя.
Не хочется сходиться с ним близко, чтоб не увидеть плохого и через это разлюбить новую поэму “Не вся земля в городах”.
Много сплю и читаю. Вернулись сны, когда парадные здания (ночью Дворец съездов среди поля) в деревне. Тетя Еня почему-то. Три пьесы Вампилова у еврея беру за пять рублей.
Ночами кричат на улице — идет призыв в армию. Гуляют.
19 мая. Залыгин и Владимов прочли рассказ в “Лит. России”. Оба хвалили. Но и ругнули — один за литературность, второй за святочность. Вот судьба — плохой рассказ замечается, а “Ямщицкая повесть” — дело двух лет… да! И ее уж не хочу в руки брать.
Безделье, безделье. Зато с женой все хорошо. Замена? Счастию? Она?
Никакая не замена, а сама по себе половина моей жизни и сейчас перевесила.
21 мая. Врали мне, говоря, что первая книга окрыляет.
Тоска глухая. Мука смертная.
Читаю А. С. Пушкина, прозу.
5 июня. За окном идет снег. Это свинство со стороны погоды. Напоминает мурманские “заряды”. Там тоже тепло-холодно в десять минут.
Дни эти (подряд две недели) был на работе. Толку ноль целых хрен десятых. Книга моя продается, и видел живых покупателей. Берут в руки, кладут обратно. Прочитывают аннотацию, на предисловие нет времени. Смотрят содержание. Торопливо открывают местах в двух-трех. Если бы бойко (зазывно) написать анноташку (жаргон издателей), то книга шла бы бойчее, но это было бы вредно: не надо хвалить хороший товар — он расходится и найдет своих потребителей.
А вообще, надо заголовки делать поинтересней. Это наука вперед.
С десяток книг раздарил. Получил хорошее, душевное письмо из Ростова-на-Дону.
Был на совещании драматургов. Еще буду писать, править 2-е действие. Отпуск накрылся.
Читаю о растениях и о животных — устал от художественной литературы. Был у Владимова — бедность. У Битова тоже. Да и Тендряков не богач.
Меня растаскивают на куски.
Мой Бог — моя жизнь. Это требует расшифровки.
Этого Бога (жизнь) невозможно обмануть, тогда как предполагаемому Богу (духу, вере…) врут непрестанно. Когда в записях пропуск, это означает одно из двух: был друг (родственная душа), кому высказывалось. Ведь что-то непрестанно копится. Или же была тягость душевная и нечего записать, и не с кем говорить.
7 июня. Вчера в Кремлевском дворце Вас. Федоров выступал со словом о Пушкине. Сегодня в ЦДЛ он подсел к нашему столику. (Кстати, в ЦДЛе был раз десять, и все поневоле.)
Поэт он хороший, уже в годах. Тяжел. Говорил:
— Не хочу в Париж, боюсь разочароваться. Я и так знаю Париж, и Монмартр, и Елисейские поля, боюсь разочароваться, а очаровываться уже поздно.
Еще говорил. Радостно.
— Уеду в свою Марьевку. И клал я с прибором на всех великих и невеликих.
— И средних, — подсказал Фролов.
Еще Федоров сказал:
— Когда выболтаюсь — уже не напишу.
— Где ваш “Дон Жуан?” — спросил Марченко.
— Хотите 50 четверостиший?
Главное, что запомнилось мне, это:
— Я всегда писал плохо, — сказал В. Федоров, — когда писал о том, что знал. И писал хорошо, когда писал о том, что…
— Не знал? — подсказал Фролов.
— …О том, что хотелось узнать.
Сегодня немного написал. “На Курском”. День делал визиты.
Пьесу читают так медленно, что ощущение таково, что тянут специально, чтоб мне стало стыдно напоминать. А я и не напоминаю.
А в книжке (своей) нет-нет, да и чего-нибудь вычеркну.
Сами периоды физической жизни человека диктуют моральное поведение.
Неужели это не ясно?
Надо пройти через всё и прийти к невозможности.
10 июня. Кручу Рио-Риту, танец отрочества. Тоска, о которой я спрашиваю себя: отчего? Не дает ответа.
Встречал вчера Астафьева в Быково. Не нуждается он во мне, хотя и говорят, что любит. Но встретить было надо: чемодан тяжелый. Сказать ему нечего, слушать его интересно.
Вот и объяснилось тяжелое состояние: получил письмо — мама в больнице.
19 июня. Связался с пьесой для телевидения. Все равно не пишется, а тут хоть деньги.
Писатели прежние оставили традицию описания красивого, ужасного, любого, но только не обыденного.
Оно интереснее, но не правдиво. Ни Железные маски, ни Манон Леско, ни драка за бриллиантовые подвески, ни 18 лет на острове, ни убийство старух, ни правое, ни левое не расположены в жизни так, чтобы занять собой всю жизнь. А в литературе занимают.
Пишешь и поневоле тянет мир удивить, а ведь сложнее обобщать из обыкновенного.
Собираю потихоньку рекомендации. Одна уже есть.
2 июля. Съездил в Киров. Очень важно. Неприятие братьев-писателей и любовь народная. Редкое счастье: видел запись в очередь на свою книгу.
И вот восьмое. И жена уехала, и дочь проводил. Сиротство. Мама всё в больнице.
9 июля. Дней пять подряд искал этот заразный дневник. Зачем-то надо было. Не нашел и что-то не записал, и что-то пропало.
В жизни очень легко поверить в предопределенность. Пропало, значит, так и нужно было. Одно только следует записать:
— Сейчас легко перестать жить. Именно сейчас, когда примеры (не призраки) старости уже примеряются на себя. И в самом деле — чем еще удивит или обрадует жизнь? Все было: работа, открытие мира, время, когда был счастлив поцелуем, когда несчастлив им же, армия, вино, женщины, старые книги, снова открытие мира через ребенка.
Но все это вещи иждивенческие. Даже радость чужой радостью, хотя и примеривается широтой души, все же эгоистична. Должна быть благодарность жизни, а она в работе. В работе, и только.
А уже перо идет вспотычку.
Да, еще давно хочу записать о том, какое это удивительное, возвышенное состояние трезвости. Причем трезвости в самом обычном понимании слова.
Когда я бросил курить, организм требовал все же отравы, и ежедневно пил кружек по пять пива. И стало меня разносить, стал я матереть-здороветь. Стало у меня пузцо сытенькое. Но Бог спас, среагировал я и пиво как отрезал. И тогда вот в период долгой сухости почувствовал ликование трезвости. Все написанное не означает, что я раньше усердствовал в возлияниях, но даже раз в декаду, и то много. И еще я боялся, что, не куря, не буду писать. Ничего.