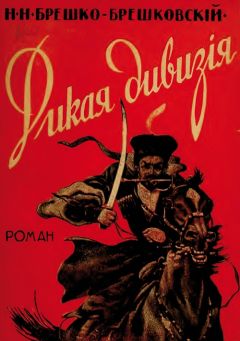Николай Богословский - Тургенев
Они даже и поселились все трое в одной квартире, отдавшись всецело совместным занятиям философией и историей.
Размышляя впоследствии над причинами первоначального отчуждения от него Станкевича и Грановского, Тургенев нашел в себе мужество сказать, что в ту пору он и не был достоин дружбы и близости таких безукоризненно чистых, прямых и цельных натур.
Склонность к самоанализу, присущая Тургеневу, пробудилась в нем очень рано. Недаром, прочитав в семнадцатилетнем возрасте «Исповедь» Руссо, он загорелся желанием написать и свою исповедь. Конечно, из этого ничего не могло получиться просто потому, что у него не было тогда настоящего материала для исповеди, не было жизненного опыта, да и литературных навыков тоже.
Станкевич, Грановский, Тургенев и Неверов часто сходились по вечерам у Фроловых, успевших за какой-нибудь год жизни в Берлине завязать знакомство со многими местными знаменитостями. В салоне Елизаветы Павловны Фроловой, слывшей интересной собеседницей, бывали артисты, литераторы, путешественники, ученые. Здесь можно было встретить прославленного натуралиста Александра Гумбольдта, писательницу Беттину Арним, известную своей перепиской с Гёте, критика Фарнгагена фон Энзе, Вердера… События общественной жизни, политические и литературные новости, журнальные статьи, театральные постановки — все было предметом живых бесед и споров в тесном кругу посетителей дома Фроловых.
Видимо, и тут молодость Тургенева еще не позволяла ему развернуться, проявить свой дар рассказчика, завладеть вниманием общества: «Я ходил туда, — замечает он, — молчать, разиня рот, и слушать».
Эти вечера у Фроловых, посещения театров и концертов, верховые прогулки в окрестностях и просто прогулки по городу несколько скрашивали оторванность от родины и от близких сердцу людей.
Если бодрость духа начинала изменять ему, он шел в концерт, в театр и почти всегда возвращался оттуда как бы возродившимся: так велика была власть искусства над ним. Музыка и театр сделались истинной потребностью для него — он слушал оперы Глюка, Моцарта, Беллини, симфонии и квартеты Бетховена, смотрел драмы Шекспира, Шиллера, и целительная сила искусства смиряла безотчетную тревогу, развеивала грусть, временами им овладевавшую.
Как-то в письме к матери он высказал жалобу на то, что она не сумела заставить его в детстве заниматься музыкой; уж лучше бы наказывала и насильно заставляла играть, зато как счастлив был бы он теперь…
В осенние дни, когда легкие морозцы сменялись оттепелью и туманами, а серые тучи, словно в раздумье, блуждали по небу, он отправлялся прямо из университета бродить по Унтерденлинден, вдоль которого тянулись дома богачей, кондитерские, рестораны и магазины. Еще засветло зажигали фонари, и ожерелья бледных огней, убегавших вдаль в сизом тумане, придавали бульвару какой-то волшебный вид.
Незаметно подошла зима, а с нею начались в Берлине рождественские карнавалы, ярмарки, балы.
В сочельник на площадях появились палатки и балаганы, в которых продавали подарки: пряники, игрушки, гребешки, табакерки, картинки, молитвенники, трубки всех сортов и видов.
По улицам, торопясь, бежали ребятишки с коньками в руках кататься на реке Шпрее. Колокольчики звенели беспрестанно. Маршировали солдаты под музыку на дворцовой площади.
Как забавно было смотреть на Schlittenfahrt — катанье на санях, в подражание русским. Все русское было вообще тогда здесь в моде. И казалось кавалерам, сидящим в саночках с дамами, что вихрем несутся они на настоящих русских санях, запряженных тройкой лошадей. Кто-то из катающихся для полноты иллюзии усадил на передок повозки декоративного ямщика с наклеенной бородой и заставил скакать впереди повозки «казачка», что привело в неподдельный восторг женщин, глазевших на Schlittenfahrt. «Sieh doch! Da kommen die Russen! Schön! Wunderschön!»[11] — кричали они.
Но разве похоже это на настоящую русскую зиму с буйным ветром, с серебристой снежной пылью, со скрипом полозьев на крепком снегу? Нет, не увидишь здесь широкоплечего ямщика в тулупе, с обмерзшими усами и бородою, покрытой инеем…
И вдруг так ясно встают перед глазами то Красная площадь с ее извозчиками и каретами, с Лобным местом, с Кремлевской стеной и чудным Василием Блаженным, то Петербург с золотою шапкой Исаакия и шпилем Петропавловской крепости, то родное Спасское, уснувшее под снежным покровом…
Несмотря на то, что Тургеневу шел уже двадцать первый год, в нем было еще много детского.
Грановский рассказывал знакомым, что не раз случалось ему, когда он заходил в Берлине к Ивану Сергеевичу, заставать такую картину: Тургенев увлеченно играет с Порфирием картонными солдатиками, которых они поочередно опрокидывают друг у друга. Развлекался еще он и тем, что привязывал к хвосту котенка бумажку, чтобы полюбоваться, как тот прыгает, силясь схватить ее.
Делалось все это между занятиями философией, историей, языками. Книги в сторону — и пошла потеха…
Варвара Петровна раскаивалась, что позволила сыну таким молодым уехать за границу. Она винила себя за то, что отпустила с ним Порфирия, из которого сын сделал вместо слуги компаньона. Мотают попусту деньги вместе, а проку не видно. За этим и не нужно было ехать за границу. Обманулась… обманулась!.. «Зачем ты поехал, зачем я тебя посылала?»
Почти в каждом письме упрекала она сына за расточительность и необдуманные издержки. Он предпочитал порою отмалчиваться, не писать ей вовсе. В ответ на этот молчаливый протест Ивана Сергеевича нашлось у нее жестокое средство — она известила сына, что если он не станет своевременно писать ей, то нести наказание за это будет ни в чем не повинный крепостной мальчик Николашка. О, как хорошо знала она сердце сына!..
«Повторяю мой господский деспотический приказ. Ты можешь и не писать. Ты можешь пропускать просто почты, но ты должен сказать Порфирию: «Я нынешнюю почту не пишу к мамаше». Тогда Порфирий берет бумагу и перо. И пишет мне коротко и ясно: «Иван Сергеевич, де, здоров», — и более мне не нужно, я буду покойна до трех почт. Кажется, довольно снисходительно. Но! — ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно Николашку высеку; жаль мне этого… что делать, бедный мальчик будет терпеть… Смотрите же, не доведите меня до такой несправедливости».
Весною 1839 года пришло от Варвары Петровны письмо, при чтении которого у Ивана Сергеевича похолодело сердце — дом спасений сгорел и обрушился. Да! Да! Да! Спасское сгорело… Уцелел только флигель, в котором жил дядюшка.
Случилось это, как потом много раз рассказывали Ивану Сергеевичу, 1 мая, вечером, около десяти часов.