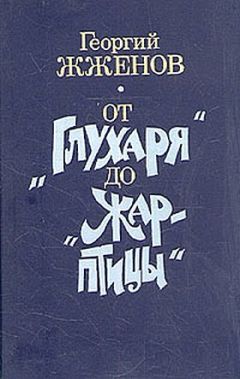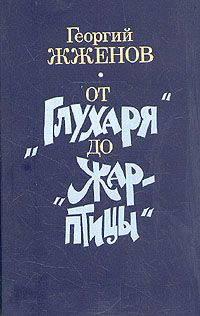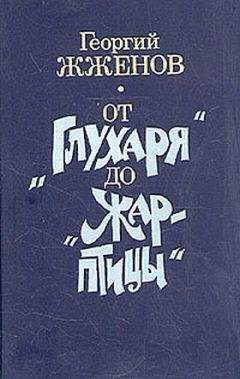Георгий Жженов - Прожитое
— Жалобы есть? — спросил начальник тюрьмы.
— Есть! — сказал я. — Прошу извинения перед дамой, но с меня только что сняли штаны… Можете убедиться!
Начальник тюрьмы вопросительно повернулся к корпусному.
— Товарищ начальник, — отрапортовал корпусной, — надзиратели действовали согласно инструкции. После праздника штаны заключенному будут возвращены.
— Я не привык ходить без штанов… Тем более в такой праздник. Мне холодно… Не хотите отдать мои штаны — дайте другие… Мой размер пятидесятый!
Инцидент все больше приобретал комическую окраску. В камере еле удерживались от смеха. «Концерт» со штанами обещал развлечение.
Спасая серьезность момента, начальник тюрьмы отдал распоряжение заменить мне штаны.
Задал свой коронный вопрос и представитель исполкома, отрабатывая тем самым свое присутствие в составе обхода.
— Как кормят? — спросил он.
Как будто от нашего ответа что-то могло измениться…
Мои сокамерники повернули головы ко мне, как бы уполномочивая меня отвечать. Сегодня я вел «концерт».
— Как и во всякой тюрьме — плохо! — разозлился я. — Как-как?! Какая разница? В одной тюрьме чуть лучше, в другой — чуть хуже. А в общем-то… везде паршиво.
— Почему?.. На Шпалерке, например, кормят лучше. Хоть пайка там и меньше, зато приварок… кашу дают, — сказал кто-то.
— Кому нравится Шпалерка, могу посодействовать, — улыбнулся начальник тюрьмы.
— Что вы, что вы, — замахал я руками. — Вы не так поняли товарища. Он этой кашей сыт по горло! До сих пор кровью харкает — там бьют!.. Мы этой кашей наелись досыта.
— Ко мне вопросы есть? — подал голос прокурор по надзору.
Камеру прорвало. Почему бьют? Когда выпустят? Долго ли еще сидеть здесь? Почему нет прогулок? Когда снимут позорные намордники с окон? — кислороду не хватает, в камерах духота — спичка не загорается.
— Ваши «когда» и «почему» вне моей компетенции, — развел руками некто из прокуратуры. — Ответы получите по мере разрешения их соответствующими инстанциями.
— Премного благодарны! — поклонился я ему в пояс. — Более исчерпывающего ответа мы и не ожидали от вас, спасибо! Низкий поклон вашим коллегам!.. Скажите, доктор! — обратился я к врачихе. — Может быть, в вашей компетенции выписать порцию винегрета? Зубы начали шататься.
Она подошла ко мне, оттянула пальцами нижние веки глаз… Потом осмотрела вспухшие десны, спросила фамилию. Я назвал. Встретив непривычное сочетание «жж», записала в свою тетрадь и ласково пообещала: «Вызову». Обход закончился.
Никаких штанов в праздники мне не принесли. К врачу меня не вызывали. Обещанный винегрет жду до сих пор.
Полгода спустя мы свиделись снова.
На этот раз ее вызвали в связи с приступом эпилепсии, случившимся с одним из заключенных.
До прихода врача мы всей камерой, как могли, старались облегчить бедняге страдания: просунули ему между зубов черенок деревянной ложки, чтобы не поранился и не откусил себе язык в конвульсиях, как это часто случается, подложили под голову мягкое, оберегая от ударов о цементный пол… Словом, пытались всячески помочь ему.
Когда припадок наконец иссяк и больной пришел в себя, понемногу затих и успокоился, в камеру явилась и долгожданная медицина.
Благоухая, как цветущий дендрарий, моя любовь одарила всех нас очаровательной улыбкой.
— Ну, что у вас тут произошло, мальчики? — бодрым, как на физзарядке, голосом спросила она.
Ей объяснили. Подойдя к больному, она заговорила с ним… Взяв его руку, пощупала пульс… Решив, что следует проверить температуру, поставила под мышку градусник… Все проделывалось не спеша, с сознанием собственной неотразимости.
Способность этой красивой женщины нравиться самой себе и получать от этого удовольствие — восхищала!
Я сидел на топчане, тихонько шептал какие-то стихи и откровенно любовался ею.
Она услышала, повернулась ко мне:
— Стишки читаешь, поэт?.. Ну-ка, ну-ка, чего там ты бубнишь, повтори.
— Вам как, доктор, читать — с выражением?
— Читай с выражением, — разрешила она.
Со всей задушевностью, на какую только способен, я начал:
Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя смотрел и думал: ты моя, —
Ты знаешь, милая, желал ли славы я…
В этом месте, на всякий случай, я сделал паузу, давая ей возможность прервать меня, прекратить мою трепотню… Но она молчала. Ждала…
Я продолжал:
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальному упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил…
И я замолчал…
— Ну, ну, что остановился? Читай дальше, — нетерпеливо потребовала она. — Ты, что ли, это сочинил?
— Да. Вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным.
— А!.. Ну читай, читай, я слушаю.
— В следующий раз, доктор! Обещаю к майскому обходу сочинить стихи и посвятить вам лично.
— А не забудешь, поэт?
— Я не забуду. Не забудьте прийти вы, доктор.
— Ладно. Договорились. Так и быть, в награду выпишу тебе рыбий жир, — пообещала она. — Только придется потерпеть, поэт!
— Опять потерпеть!
— Ничего не поделаешь: сейчас весна, рыбий жир портится. Тебе начнут давать его осенью.
Щедрая моя! Ей и в голову не вступило, что в своем восторженном эгоизме она пророчит сидеть мне всю весну, лето… осень.
— Осенью, значит… — разочарованно протянул я. — Это как с винегретом, что ли?
— Каким винегретом?
— Забыли, доктор? Прошлой осенью, во время ноябрьского обхода, вы обещали мне выписать винегрет.
— Да?.. Обещала?.. Не помню, — искренне призналась она. — Может, и забыла, хотя вряд ли… Скорее всего, возможности тогда не было. Вас ведь много, а я одна!.. Меня на всех не хватит. Все, что вам положено, — отдаю. Я лично ваш винегрет не ем. Так-то, поэт! Жду стихи.
Свое обещание я сдержал. Стихи сочинились в одно усилие, легко:
Пришла весна. На север потянули гуси.
А я все жду ее, но тщетно, нет —
Я не дождуся той Маруси,
Что носит в чаше винегрет.
О, милый друг, не плачь, —
Сказал тюремный врач.
Взамен получишь жир рыбицы,
Но, правда, когда птицы
От севера потянутся на юг!
В сентябре 1939 года, когда птицы потянулись на юг, меня в числе других согнали вниз, на «пятачок» корпуса, к кабинету начальника тюрьмы, «за получкой».