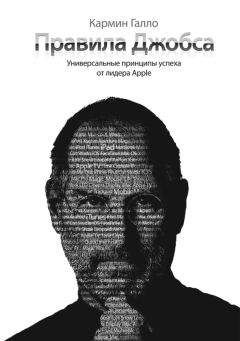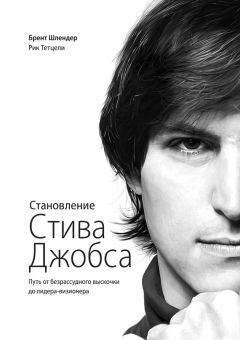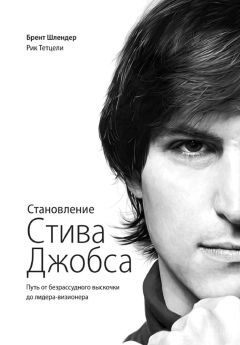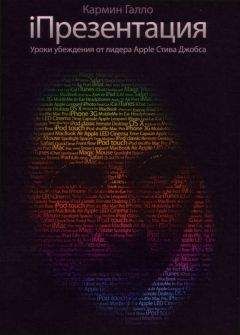Евгений Евтушенко - Волчий паспорт
Мама не хотела, чтобы я стал поэтом.
Не потому, что она не разбиралась в поэзии, а потому, что твердо знала одно: поэт — это что-то неустроенное, неблагополучное, мятущееся, страдающее. Трагическими были судьбы почти всех русских поэтов: Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли, жизнь Блока, сжигавшего себя в угарных ночах, в сущности была самоубийством, повесился Есенин, застрелился Маяковский. Мама не говорила мне, но, конечно, знала и о гибели многих поэтов в сталинских лагерях. Все это заставляло ее бояться моего будущего поэтического пути, заставляло рвать мои тетради со стихами и уговаривать меня заняться чем-нибудь, по ее выражению, более серьезным.
Но самым серьезным мне казалось именно это.
И я продолжал писать с упорством маленького сумасшедшего
…Я сражался в школе с ябедами, подхалимами, любимчиками.
Я быстро снискал себе репутацию хулигана. После седьмого класса меня перевели в новую школу, куда учителя сбывали с рук нерадивых учеников со всей Москвы. В ней я проучился недолго, ибо я выделялся даже там своими мятежами.
Я некоторое время пытался скрыть от мамы факт своего исключения из школы, зная, как это ее огорчит, но мне это не удалось. Мама в слезах настаивала, чтобы я шел к директору просить о снисхождении, сама хотела идти куда-то, но я был горд.
Я поехал к отцу в Казахстан.
Мне было пятнадцать лет.
Я хотел стать самостоятельным человеком.
Отец работал тогда начальником одной из геологоразведочных экспедиций.
Он посмотрел на меня, исхудавшего, оборванного, и сказал:
«Ну, вот что… Если ты действительно хочешь стать самостоятельным человеком, никто не должен знать, что я твой отец».
Я стал рабочим в геологоразведочной экспедиции.
Я научился долбить землю киркой, выкалывать молотком из породы плоские, как ладонь, образцы, расщеплять бритвой на три части оставшуюся единственную спичку и разводить костер во время дождя.
Я вернулся к маме загорелый и возмужавший.
После того как она встретила меня на вокзале, мы ехали с ней в трамвае и сбивчиво говорили о чем-то.
Вдруг я увидел, что все пассажиры удивленно смотрят на меня, а мама плачет.
Оказывается, в разговоре с мамой я по инерции употреблял сочные непереводимые выражения, на которые в моем прежнем кругу никто не обращал внимания.
Но мама плакала.
И с той поры я никогда больше не ругаюсь. Почти никогда…
Когда мы приехали домой, я распорол брюки, в которых были зашиты честно заработанные деньги, и бросил их на стол.
— Как хорошо, что у нас теперь есть деньги, — сказала мама. — Мы наконец сможем сделать ремонт квартиры.
— Нет, мама, — сказал я твердо. — На эти деньги я куплю себе пишущую машинку.
— Какой ты стал жадный, — горько сказала она.
— Подожди немного, мама. Эта машинка отремонтирует нам квартиру, — ответил я.
И, не учась нигде, я продолжал бешено писать и снова бомбардировать редакции стихами. Но пишущая машинка не помогала — стихи не печатали. Кроме того, у меня была еще одна страсть — футбол.
Ночью я писал стихи, а днем играл в футбол — во дворах, на пустырях. Я возвращался в изодранных ботинках, в разорванных брюках, из которых торчали кровоточащие коленки. Самым упоительным звуком мне казался звук удара по кожаному мячу.
Обвести множество противников неожиданными финтами и дриблингами, а затем всадить «мертвый» гол в сетку мимо беспомощно растопыренных рук вратаря — все это казалось мне, да и продолжает казаться до сих пор, очень похожим на поэзию.
Футбол меня многому научил.
Потом я стал играть вратарем, и это научило меня не только нападать, но и зорко следить за малейшими движениями противников и предугадывать, когда эти движения обманны.
Это впоследствии помогло мне в моей литературной борьбе…
В футболе во многом легче. Если ты забил гол, тому есть прямое доказательство — мяч в сетке. Факт, как говорится, неоспорим. (Правда, и тут судьи могут не засчитать гол, но все-таки это исключения.) Если ты забиваешь поэтический гол, то чаще всего раздаются тысячи судейских свистков, объявляющих этот гол недействительным, и доказать ничего невозможно.
И очень часто удары мимо ворот официально объявляются голами.
Спорт, несмотря на все махинации и грязь, вообще более чистая штука, чем литература.
И мне иногда очень жаль, что я не стал футболистом.
А я им чуть-чуть не стал.
В одном из матчей мальчишеских команд я особенно отличился. Я взял подряд три пенальти. После матча ко мне подошел тренер одной знаменитой команды и попросил зайти «на пробу». Все мальчишки отчаянно завидовали мне.
Но произошло одно событие, которое определило мою судьбу.
Я давно собирался отнести свои стихи в редакцию газеты «Советский спорт». Кажется, это была единственная газета, куда я еще ни разу не посылал своих опусов.
Я пришел туда после матча в выцветшей синей майке, спортивных шароварах, рваных тапочках. В руках у меня было стихотворение, где подвергались сравнительному анализу нравы советских и американских спортсменов. Стихотворение было написано «под Маяковского».
Редакция «Советского спорта» помещалась в большой комнате на Дзержинке, где в табачном тумане несколько мистически вырисовывались какие-то стучащие на машинке, скрипящие авторучками, шуршащие гранками фигуры.
Я робко спросил, где отдел поэзии. Из тумана мне рявкнули, что такого отдела вообще нет.
Но вдруг из тумана высунулась рука, добро легла мне на плечо, и чей-то голос спросил:
— Стихи? Покажите мне, пожалуйста…
Я сразу поверил этой руке и этому голосу.
И не ошибся.
Передо мной сидел черноволосый человек лет тридцати с красивыми восточными глазами. Звали его Николай Александрович Тарасов. Он заведовал сразу четырьмя отделами: иностранным, партийным, футбольным и литературным.
Тарасов посадил меня рядом, пробежал глазами стихи.
Потом спросил:
— Еще есть?
Я достал из-за пояса замусоленную тетрадочку и стыдливо сказал:
— Только это не о спорте…
Тарасов улыбнулся:
— Тем лучше…
Он стал читать вслух стихи, не обращая внимания на трескотню пишущих машинок. Потом подозвал какую-то женщину и прочитал ей строчку, где виноградная гроздь сравнивалась со связкой воздушных шаров.
Потом он стал снова читать стихи вслух.
Вокруг стола столпилось уже много людей — журналистов, фотографов, машинисток. Они слушали.
Наконец Тарасов обвел глазами всех и спросил:
— Ну как — будет писать?
— Будет! — хором ответили все.
Чья-то рука хлопнула меня по плечу:
— Будет!
— Я тоже так думаю, — сказал Тарасов улыбаясь.
До сих пор я удивляюсь, как эти люди могли угадать во мне поэта. Видимо, им помогло то, что они не занимались собственно литературой и их головы не были захламлены всякого рода предвзятостями.
Все разошлись по своим столам.
Мы остались одни с Тарасовым.
Он взял мое стихотворение «Два спорта».
— Это самое плохое. Но оно для нас…
И написал на нем магическое, столь долгожданное мной: «В набор». И оно уплыло куда-то.
— Не думайте, что другие стихи очень хорошие. Но в них есть строчки — крепкие строчки.
Я глубокомысленно сделал вид, что понимаю выражение «крепкие строчки».
— Кого вы любите из поэтов? — быстро спросил Тарасов.
Я выдавил:
— Маяковского…
— Хорошо, но мало… Пастернака знаете?
— Знаю.
— Врете! А если и знаете, то знаете…
И он стал на память читать мне строки Пастернака, действительно не известные мне.
— Николай Александрович, опять вы Пастернака читаете! — шутливо пригрозила ему машинистка, иронически показывая на дверь, где крупно было написано «Редактор».
— Слава Богу, мы все-таки в спортивной редакции, — усмехнулся Тарасов.::.
Он склонился со мной над тетрадкой и стал объяснять мне, что хорошо и что плохо. Особенно он не выносил в гост, водянистости. Все экспериментальное, находящееся инод даже на грани безвкусицы, хвалил.
Потом спросил меня:
— Вы куда-нибудь торопитесь? Я хочу познакомить вас с одним моим другом, физиком.
Тарасов позвонил куда-то. Через некоторое время в редакцию пришел бледный человек тоже лет тридцати, с огромным лбом, судорожными движениями. Под мышкой он держал шахматную доску.
— Это мой друг — физик Володя Барлас, — сказал Тарасов. — А это поэт Евгений Евтушенко…
Тарасов был первым человеком, который назвал меня поэтом.
— Поэт? — недоверчиво поднял брови Барлас. — Это, знаете ли, многое…
И недоверчиво хмыкнул.
Мне он сначала почему-то показался ненормальным.
Мы вышли втроем из редакции в шумящую молодой июньской листвой Москву 1949 года.
— Поэт, — задумчиво повторил Барлас. — Ну, а что же вы хотите сказать миру?