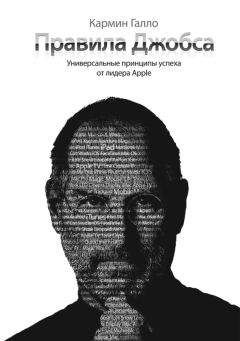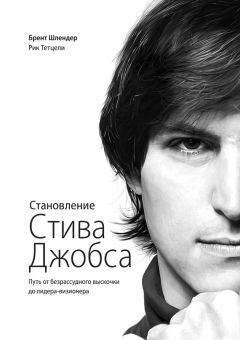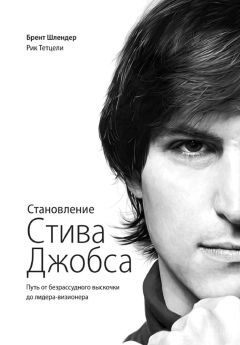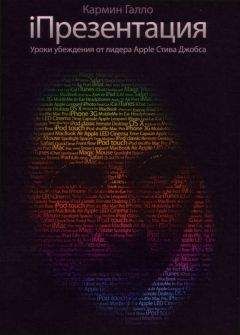Евгений Евтушенко - Волчий паспорт
Благодаря отцу я уже в шесть лет научился читать и писать и в восемь лет залпом читал без разбора — Дюма, Флобера, Шиллера, Бальзака, Данте, Мопассана, Толстого, Боккаччо, Шекспира, Гайдара, Лондона, Сервантеса и Уэллса. В моей голове был невообразимый винегрет. Я жил в иллюзорном мире, не замечая никого и ничего вокруг.
Я даже не замечал, что мои отец и мать разошлись и только скрывают это от меня…
…В сорок четвертом году мама и я возвратились из Сибири в Москву. Мама сразу уехала на фронт с концертной бригадой.
И однажды я впервые увидел наших врагов. Если не ошибаюсь в цифре — около двадцати тысяч немецких военнопленных должны были пройти по улицам Москвы в одной колонне.
Все мостовые были оцеплены солдатами и милицией и заполнены народом.
В основном это были женщины.
Русские женщины с руками, потрескавшимися от тяжелых работ, с губами, не привыкшими к помаде, с худыми сутулыми плечами, на которых они вынесли полтяжести войны. Наверно, у каждой из них немцы убили или отца, или мужа, или брата, или сына.
Женщины с ненавистью смотрели туда, откуда должна была вот-вот появиться колонна военнопленных.
Наконец она появилась.
Впереди шли генералы, надменно подняв массивные подбородки. Углы их губ были презрительно поджаты. Они всем своим видом старались показать аристократическое превосходство над победившими их плебеями.
— Одеколоном пахнут, сволочи! — ненавидяще сказал кто-то в толпе.
Рабочие руки женщин медленно сжимались в кулаки.
Солдаты и милиция уже из последних сил сдерживали их.
И вдруг я увидел, как одна немолодая женщина в грубых сапогах положила руку на плечо милиционера:
— Пропусти!
И что-то в ней такое было, в этой женщине, отчего милиционер отодвинулся.
Женщина подошла к колонне, вынула из-за пазухи что-то обмотанное в ситцевый платок, развернула. В платке была горбушка черного хлеба.
Женщина неловко сунула хлеб в карман измученного, еле держащегося на ногах солдата.
И вдруг со всех сторон к солдатам бросились женщины и стали им совать хлеб, папиросы…
Это были уже не враги.
Это были люди…
…С фронта приехала мама.
Она выглядела очень странно — худенькая-худенькая, с черными, непохожими на прежние светлые, волосами.
Сначала я думал, что она покрасила волосы. Я спросил у нее об этом.
Мама грустно улыбнулась и сняла с себя парик. На ее голове топорщился мальчишеский ежик. Мама заболела на фронте тифом, а в военных госпиталях стригли наголо. У мамы что-то случилось с голосом. Она пела на фронте по нескольку раз в день, стоя то на грузовике, то на танке перед солдатами, которые после этого шли умирать.
Мама рассказывала, что это были самые благодарные слушатели.
Мама пела им и в дождь, и в метель, согреваясь иногда только водкой из чьей-нибудь содцатской фляжки.
И ее голос, такой красивый и сильный, стал слабеть. Голос не выдержал.
По возвращении мама нашла работу — где, — она мне не говорила.
Потом мальчишки из нашего класса спросили меня:
— Твоя мама певица?
— Певица, — гордо ответил я.
— А где она выступает?
— Я не знаю, наверно, в театре…
— В театре… — хмыкнули мальчишки. — Она в кино поет, в «Форуме»…
Был День Победы.
Ракеты одна за другой взвивались в небо. Мальчишки бегали по тротуарам, стараясь поймать их ослепительные брызги.
Люди обнимали друг друга, плакали и смеялись. Людям казалось, что все испытания остались позади и теперь начнется удивительно безоблачная жизнь.
А я пошел в кинотеатр «Форум».
Фойе было набито битком солдатами и женщинами. Пахло пивом и дешевыми духами. Из рук в руки ходили принесенные с собой бутылки водки. Пили прямо из горлышек, закусывая жадными поцелуями… Сегодня разрешалось все.
Никому не было дела до оркестрика, игравшего бравурные марши на крошечной эстраде.
Я вздрогнул.
На эстраду вышла женщина в платье, осыпанном блестками, в позолоченных туфлях и с густыми черными волосами, под которыми — я уже знал — был только застенчивый мальчишеский ежик.
Это была мама. Мама подошла к микрофону и стала петь. Голос ее был неуверен, и трудно было догадаться о его прежней красоте.
Никто не слушал маму.
Предпочитали целоваться и пить, пить и целоваться. Ведь была Победа! И за эту Победу 20 миллионов человек отдали свои жизни, а моя мама — свой голос.
Потом мы шли с мамой по ночной Москве сквозь крики, смех и музыку. Я нес мамин чемоданчик, в котором были · сложены ее платье с блестками и позолоченные туфли. На маминых ногах снова были солдатские сапоги.
— Я плохо пела? — спросила меня мама.
— Нет, что ты — очень хорошо, — торопливо ответил я.
Мама посмотрела на меня долгим взглядом и грустно погладила
по голове.
Вскоре она сошла со сцены и стала работать рядовым концертным администратором. Это была нервная, изнуряющая работа, а денег она приносила очень мало — 700 рублей в месяц. И вот на эту зарплату мама воспитывала меня и мою сестренку Елену, появившуюся во время войны.
Маме приходилось трудно со мной.
Характер у меня был ужасный — меня прямо-таки разъедало любопытство к жизни; и я из любопытства впутывался в самые невероятные истории.
То я попадал в компании самых настоящих воров, то в компании спекулянтов книгами.
И отовсюду меня выволакивала мама.
Мама хотела от меня, чтобы я учился, учился и учился.
А учился я необыкновенно плохо.
К некоторым предметам я вообще был неспособен — например, к физике. Я до сих пор, кстати, не могу понять, что такое электричество и откуда оно берется.
Плохие отметки у меня всегда были по устному русскому. Писал я почти без ошибок, и мне казалось бессмысленным заучивать грамматические правила, если я и так пишу правильно.
Уже в школе начиналась — конечно, только в зародышевой форме — дифференциация моего поколения. За школьными партами сидели маленькие правдоискатели, маленькие герои, маленькие циники и маленькие догматики.
Я уже тогда не любил бездельничающих циников, иронически издевающихся надо всем и всеми, но точно так же терпеть не мог бессмысленно трудолюбивых тихонь, принимающих все на веру.
Сидя за партой под портретом Сталина, я жадно вглядывался в окно, где в воздухе медленно кружились белые хлопья.
И я удирал в другую школу — шумную школу города, где пахло снегом, сигаретами, бензином и дымящимися пирожками, которые продавали раскрасневшиеся от мороза лоточницы.
Возвращаясь домой, я садился за письменный стол, прилежно раскладывал ученические тетради, и, как только довольная мной мама оставляла меня, я писал стихи, пытаясь придумать в них себе какую-то другую жизнь. Я переставал писать стихи только тодац когда рука уже совершенно онемевала. В день иногда я писал по 10–12 стихотворений. Я бомбардировал своими стихами все редакции и неизменно получал отказы. Представляю себе, что подумала редакция «Пионерской правды», получив от школьника такого рода стихи:
Текла моя дорога бесконечная.
Я мчал, отпугивая ночи тень.
Меня любили вы, подруги встречные,
Чтоб позабыть на следующий день.
Однажды я собрал все свои стихи в большую тетрадь и послал их в редакцию издательства «Молодая гвардия».
И наконец получил ответ с просьбой зайти. Подписано письмо было поэтом Андреем Досталем. Я зашел.
Андрей Досталь, худощавый молодой человек с повязкой на глазу, делавшей его похожим на пирата, удивленно спросил:
— Вы к кому, мальчик?
Я показал ему письмо.
— А ваш папа, должно быть, болен и сам не смог прийти? — спросил Досталь.
— Это я написал, а не мой папа, — нервно ответил я, судорожно сжимая в руках школьный портфель.
Досталь недоуменно посмотрел на меня. Потом расхохотался:
— Здорово же вы меня провели. Я рассчитывал увидеть убеленного сединами мужчину, прошедшего огонь и воду и медные трубы. У вас же в стихах и война, и страдания, и любовные трагедии…
Находившиеся в комнате люди тоже смотрели на меня и улыбались.
Мне казалось, что надо мной потешаются. Мои глаза медленно наливались слезами.
Но Досталь, почувствовав это, обнял меня, усадил рядом и стал говорить мне о присланной тетради. Впоследствии мы подружились с ним. Он сам был небольшим поэтом, но любил поэзию и хотел видеть во мне то, что не смог осуществить сам. Вообще, в моей поэтической биографии мне помогли именно небольшие поэты. Они часто внимательнее, нежнее «больших». Но напечатать стихи мне все же не удавалось.
Однако на моем столе всегда лежал «Мартин Иден» Джека Лондона, и его первые страницы были для меня вдохновением и помощью. Тогда самым главным в «Мартине Идене» для меня были первые страницы. Теперь — последние.