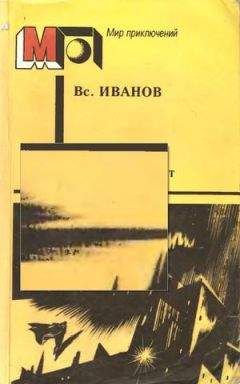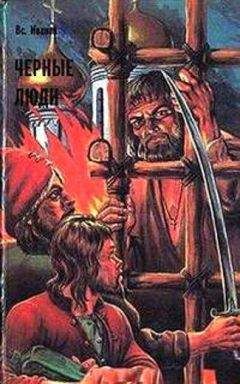Всеволод Глуховцев - Александр Первый: император, христианин, человек
Летом 1819 года вспыхнул бунт ещё в одном военном поселении, тоже на Украине, только восточнее, на так называемой Слободской Украине, в городке Чугуеве близ Харькова – тамошнее поселение называлось 2-й Уланской дивизией.
Повод к возмущению был вроде бы совсем пустячный: какая-то несправедливость при распределении нарядов на работу (сенокос). Кого-то попытались заставить косить вне очереди или нечто вроде того… Но ясно, что любой повод задним числом оказывается последней каплей, переводящая количество в качество. Вот и в данном случае приказ о сенокосе угодил в долго-долго зревший нарыв, и тот лопнул.
Дисциплина, придирки, неразбериха в указаниях, да и просто нежелание жить по регламенту, принудительное счастье – всё точно по антирецепту «человека из подполья». Дайте нам «по собственной глупой воле пожить»!.. Может, поселенцы прямо так, словами Достоевского не думали, но ощущать-то они это ощущали, и непонимание, досады и обиды копились, копились, и вот – выплеснулись в неистовый, отчаянный, нелепый бунт.
Командир 2-й Уланской дивизии (он же начальник поселения) генерал-лейтенант Лисаневич справиться с мятежниками не сумел. Не помог и харьковский губернатор Муратов. Ситуация выходила из-под контроля… и тут, конечно, должно было состояться явление штатного deus ex machinа – графа Аракчеева.
То, чего не удавалось сделать генерал-лейтенанту и губернатору, с приездом начальника поселений водворилось сразу, точно под одним только действием его тяжёлого взора. Беспорядки прекратились. Аракчеев начал следствие.
«Жестокости Аракчеева не всем русским могли быть понятны: его бессердие было чисто немецкое. Он любил ломать бессильные препятствия, неволить человеческую натуру и всё подводить под один уровень» [16, т.1, 444] – так аттестовал графа Филипп Вигель, немалого ранга чиновник, более известный как мемуарист – его «Записки» являются широко известным, хотя и крайне своеобразным источником…
Вигель – автор пристрастный, злой на язык, при этом неплохой стилист; «Записки» читаются захватывающе, правда, удивляя желчью характеристик, даваемых автором не одному Аракчееву, но множеству сильных мира сего: Кочубею, Воронцову, Сперанскому… иной раз кажется, что рукою сочинителя водила зависть к более успешным людям. Кроме того, известно, что Вигель был нетрадиционно ориентирован в сексуальной сфере, а это также, очевидно, создаёт особый авторский флёр…
Однако, что касается Аракчеева, то подобная позиция для светского общества характерна: там Аракчеева ненавидели как выскочку, примерно так же, как Сперанского; с тою, однако, разницей, что Алексея Андреевича свалить было невозможно. Тот платил аристократам похожей монетой, мы знаем. Было ли в этом взаимном ожесточении нечто искреннее и справедливое?.. Вероятно, да, было. Аракчеев властною рукой смирял светскую вольницу, не давая ей распускаться, придворные в отместку выискивали самые неприглядные стороны в характере временщика, утрировали их, создавая образ «людоеда», «змия», «гадины»… Но! – вот ещё значительное «но» – в злой карикатуре, несомненно, содержалось, что-то верное, что-то точно схваченное. Конечно, Алексей Андреевич не был безусловно-патологическим типом, маньяком-убийцей, однако, палачом он, видимо, был. Возможно, в том имелась принципиальная убеждённость: граф твёрдо полагал, что лишь такая мрачная суровость способна скрепить огромную, трудноуправляемую страну, и он, верный государев слуга, не вкладывает в свою строгость ничего личного… Но это, собственно, и есть убеждённость тюремщика. Нет причин говорить плохо про эту профессию – нужда в ней есть, значит, претензий нет; значит, есть и будут люди, убеждённые в важности этого ремесла, и упрекнуть их не в чем. Нет, здесь другое: Аракчеев, наверное, мог честно думать, что он только бич и меч государев… однако, «учили всех, а первым учеником почему-то оказался именно ты» – суровых начальников много, но Аракчеев суровей всех. Не у кого-то, а у него в имении люди доходят до убийства; не после чьего-то, а после его разбирательства остаются десятки умерщвлённых и искалеченных; и депутация военных поселян хочет прорваться к царю с просьбой защитить «крещёный народ» не от кого-нибудь, а от Аракчеева [44, т.3, 272]…
Впрочем, темна вода во облацех. Возможно, педантичный и старательный граф просто-напросто владел ситуацией – именно так, как этого требовала эпоха, и ничего больше… Ведь времена Александра по сравнению с недавним прошлым воспринимались как эра милосердия [49, т.5, 280], а владеть ситуацией можно было, единственно не давая спуску смутьянам и держа в примерном смирении и страхе остальных – то есть ровно так, как действовал Аракчеев в Чугуеве, велев прогнать зачинщиков сквозь строй из тысячи человек по двенадцать раз. Двенадцать тысяч палочных ударов каждому – и беспорядков в помине нет, а до того ни командир дивизии, ни губернатор с ними справиться не могли… Закон суров, но это закон – а граф Аракчеев служитель закона, только и всего. Он не хотел смерти бунтовщиков: некоторые из них скончались после наказания не по его злобной прихоти, но по установленным правилам. Сам же он, докладывая государю о проделанной работе, в частности, о смерти нескольких преступников, «самых злых», сообщил, что он от этого «начинает уставать» [32, т.5, прилож., 90]… А государь поспешил откликнуться на это донесение письмом, в котором также говорил о трудной справедливости закона, и о том, что вынужденная строгость Алексея Андреевича, должно быть, дорого стоила его «чувствительному сердцу».
На первый взгляд, эти строки Александра могут показаться каким-то отталкивающим лицемерием – тем самым качеством, в котором его слишком часто упрекали. Что правда, то правда: лицедействовать император умел; но в данном случае, вероятно, психологический лабиринт поизвилистее. Александр мог отчасти спроецировать на графа свои собственные чувства: конечно, он воспринял известие о смерти мятежников тяжело. Да, телесные наказания были в ходу сплошь и рядом, но они формально не были смертельными…
Формально за время Александрова царствования в России вообще не состоялось ни одной смертной казни; последняя до его восшествия на трон имела место в Москве в 1775 году – были обезглавлены Пугачёв и четверо его сподвижников: Перфильев, Подуров, Торнов и Шигаев; а следующая – уже в 1826-м – декабристы, и тоже пятеро: Пестель, Рылеев, Сергей Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский. Только эти были повешены в Петербурге…
Да, официально смертной казни не было, но там, в Чугуеве… Александр был подавлен – и от этого ему могло казаться, что так же подавлен Аракчеев. А кроме того, сам граф ведь отнюдь не был таким уж беспросветно одномерным субъектом. Да, подчинённым он мог показаться чем-то вроде механического андроида – и это было, в сущности, впечатление не ложное, ибо Алексей Андреевич считал данную модель руководящего поведения оптимальной. С надменными чванливыми придворными он вёл себя несколько иначе: более жёстко и грубо, так, чтобы эти важные субъекты превращались в униженно лебезящие существа – также, очевидно, воспринимая это как необходимый дидактический приём. И, наконец, в общении с императором он был ещё иным, каким и должен быть верный, бесконечно преданный друг: прямодушным, приветливым, открытым человеком, с которым так уютно, можно попить чайку, отдохнуть душой, поболтав о чём-нибудь незначащем, каких-то милых пустяках, лучше всего о мелочах военной службы: тех самых пуговицах, обшлагах, эмблемах, о строевом шаге, парадах, шеренгах и плутонгах… И как же тут не посочувствовать «чувствительному сердцу», возложившему на себя бремя жёстких решений, необходимых в государственных делах, самой прочной опоре, самому надёжному прикрытию императора!