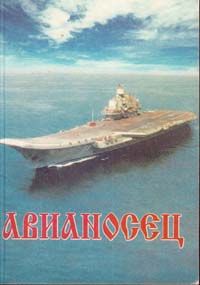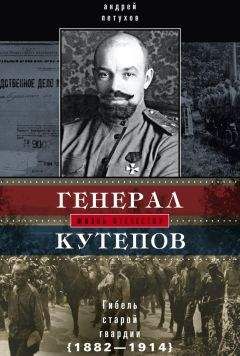Юрий Макаров - Моя служба в Старой Гвардии. 1905–1917
Перед окончательным разрешением меня взяли в перевязочную, померили температуру, оказалось 36.7, заново перебинтовали и, наконец, сказали:
— Ну, Бог с вами, поезжайте!
В 5 часов пришла телеграмма из Александровской общины, что все будет сделано, а в 9 часов вечера, четверо санитаров со Смуровым впихивали меня в широкое окно вагона и укладывали на бархатном диване на разостланную клеенку. Из раны все еще сочилась какая-то гадость, а портить казенную обивку не следовало.
Вагон был совершенно пуст. Только у соседнего окна стоял единственный кроме нас пассажир, небольшого роста, с розовыми щеками и седой бородкой, симпатичного вида господин лет за 60 и с любопытством на нас смотрел.
Смуров получил последние инструкции, пакет с перевязочным материалом, какие-то бутылки… Комендант станции Киев с нами распрощался и поезд тронулся.
В спальном вагоне 1-го класса Смуров ехал в первый раз в жизни, но чувствовал себя так, как будто бы никогда иначе не ездил. Отправился в вагон-ресторан устраивать мое питание, а кстати организовать и свое собственное. Затем потребовал у проводника подушку и одеяло и полез наверх, предварительно попоив меня чаем.
На следующий день часов в 10 утра, около моей открытой двери остановился наш единственный попутчик, вчерашний господин с седой бородкой. Долго на меня смотрел и говорит.
— Вы ранены?
— Ранен, — отвечаю.
— Как же вас выпустили из санитарного поезда? Может быть осложнение…
— Да у меня уже пятый день нормальная температура.
— Все-таки это неосторожно. Я потом вас посмотрю. Я врач, вы мое имя может быть слыхали… профессор Рейн, а теперь министр здравоохранения…
— Конечно, слышал, профессор, и очень вам благодарен за внимание.
А сам думаю, час от часу не легче… Этого еще не доставало! Министр здравоохранения… знает, как я из санитарного поезда удрал… видел, как меня в окошко впихивали… Хотя военно-санитарная часть ему не подчинена, она в ведении добрейшего, но грозного принца Ольденбургского, но стоит ему кому не нужно два слова сказать, большие неприятности могут выйти и вокзальному санитарному начальству, а косвенно и коменданту станции Киев…
Но что-то в симпатичном и ласковом лице министра говорило, что он никому гадостей делать не собирается.
— У вас перевязочный материал с собой есть?
— Как же — говорю, — все есть, и марля, и вата, и спирт, и бинты. Всего этого мне дали на вокзале в Киеве. Вот сейчас вернется я мой денщик и все достанет…
— Он у вас шустрый парень, я уже заметил. А почему вы улыбаетесь?
— Да так, любопытно будет вспомнить под старость, что в этот раз на войне первую перевязку мне сделал ротный фельдшер, а последнюю Всероссийский министр здравоохранения.
Но шутка моя успеха не имела, прошла незамеченной.
— Смейтесь, смейтесь, голубчик… А я уже солдат и офицеров перевязывал, когда вы еще не родились… Из Медицинской Академии нас выпустили в 77-м году, прямо на войну в Румынию. Мне тогда 24 года было. Вот вы санитарного поезда испугались, а там и уход, и чистота, и накормят, и напиться подадут… А вот как ваши папаши воевали… Железных дорог нет, есть нечего, грязь, холод, болезни… Вы знаете, как раненых тогда возили? В болгарскую каруцу на волах накладут 5–6 человек и тащатся 4 дня, в дождь, в холод, в солдатских шинельках, едят сухари, а воду пьют из лужи… Им бы санитарный поезд, ох как понравился! А госпиталя тогдашние… Мокро, холодно, грязно… Лежат все вповалку, на соломе: тут и легкие, и тяжелые, и офицеры, и солдаты… Такие дикие места были, что не только самого необходимого не достанешь, подвезти ничего нельзя… Дороги непролазные… Вот вы ранены не тяжело, а в Турецкую войну я за вашу рану бы не поручился. Сколько таких было… Кажется легко, а глядишь инфекция и гангрена… Вы вот в эту войну об эпидемиях не слыхали… А тогда от болезней, от дизентерии, да от тифа, в двадцать раз больше народу погибло, чем от ружей и пушек. Вы знаете, сколько одних врачей тогда от тифа на тот свет отправилось? До полутораста человек… И я схватил, да молод был, вывернулся… А теперь и санитарное ведомство, и Красный крест, и питательные пункты и летучие отряды… Чего, чего только нет… И все еще недовольны!
— Да, уверяю вас, профессор, что если есть недовольные, так это только те, которые всегда и всем недовольны… Я форму ношу с начала войны, 3-ий раз эвакуируюсь, и ни одной серьезной жалобы на санитарную нашу часть никогда не слыхал… А что я от поезда отвертелся так это понятно. Когда под боком есть лучшее, так хочется лучшего…
— Да я вас и не виню, а все-таки…
Старик любил поговорить, а других попутчиков не было.
Явился Смуров.
Министр снял пиджак, вымыл руки, Смуров полил их спиртом, и приступили к делу. Перевязывал он артистически, так, что лучше невозможно.
Смуров ассистировал и удостоился похвалы.
Потом мне принесли завтрак.
Среди дня профессор заходил ко мне несколько раз. Говорил долго и чрезвычайно интересно. И видел он на своем веку много и знал много.
Но как я ни старался завести его на жгучие, актуальные темы, смены министров, Распутин и т. п., старая лисица неизменно сворачивала на Турецкую войну.
На следующий день в 2 часа дня мы были в Петербурге на Варшавском вокзале.
Рейну подали простую карету, а мне санитарную.
Пролежав дней 15 в Александровской общине, я, наконец, получил костыли.
А еще через несколько дней, когда рана окончательно затянулась, жена со Смуровым перевезла меня домой.
Командиры Соваж, Тилло и Попов
Ген. Эттер ушел от нас в конце июля 15-го года. Он оставил полк на отходе, когда все более и более долгими ночными маршами мы старались оторваться от наседавших на нас немцев.
За время беспрерывных отходов с боями, при полном безмолвии нашей артиллерии, полк сильно растрепался. Во многих ротах оставалось по 30, по 40 человек. Ротами командовали прапорщики и фельдфебеля. Часто не успевали подбирать раненых. Таким образом совершенно исчезли два отличных офицера: Николай Карцев и Михаил Тумской. Так как в плену их потом не оказалось, нужно думать, что тяжелыми снарядами они были разорваны и превращены в неузнаваемые клочья. Для полка эти два месяца, июль, август 1915-го года, были самые тяжелые и самые кровавые за всю войну. И все-таки полк ни разу не бежал, в плен попадали только тяжело раненые, которых не было возможности вынести, отходили неизменно в порядке и воинского вида не теряли ни при каких обстоятельствах и ни при какой обстановке.
Не могу сказать какого июля, но дня через два после отъезда Эттера, из штаба дивизии прислали командовать нашими жалкими, но все еще бодрыми остатками, полковника соседнего Измайловского полка, Георгия Ивановича Лескинена.