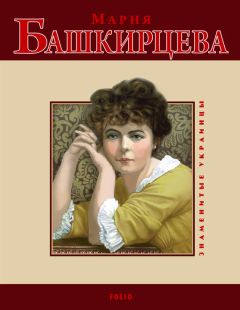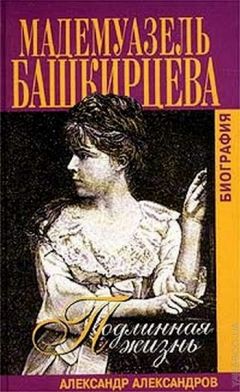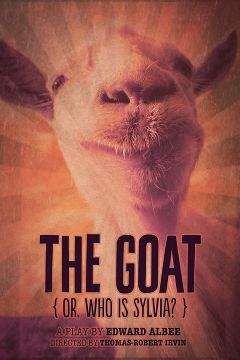Мария Башкирцева - Дневник Марии Башкирцевой
Никогда, даже в разговоре с Жулианом, я не употребляю слов — любовник, любовница, связь — этих обыкновенных и точных выражений, которые заставляют предполагать, что все говорит о вещах, хорошо знакомых вам.
Все знают, конечно, что все это известно, но по этим понятиям скользишь незаметно; даже если бы я не знала ничего, я не казалась бы смешною, так как есть разговоры, при которых немножко ядовитости, насмешки над неким Авгуром неизбежны, хотя бы только вскользь.
С Робер-Флери мы по преимуществу говорим об искусстве, да и то… Но все-таки невольно приходится касаться музыки, литературы.
Итак, я вижу, что Робер-Флери верно понимает… это знание, что он находит это весьма естественным и что если я настолько откровенна, чтобы не разыгрывать из себя дурочку, то у него есть настолько такта, чтобы никогда не доходить до того, до чего дохожу я.
Не забудьте, что по этому журналу вы не можете знать меня, здесь я серьезна и без прикрас; в обществе я лучше: в моем разговоре попадаются удачные обороты, образы, новые, свежие, забавные вещи.
Я глупа и тщеславна… Я уже готова думать, будто этот академик меня понимает так, как я себя понимаю, и, следовательно, должен ценить мои побуждения.
Нет сомнения, что собственные достоинства всегда преувеличиваешь; приписываешь их себе даже тогда, когда совсем их не имеешь.
Пятница. 18 августа. Мы не застали Бастьена дома; я оставила ему записку и мельком взглянула на то, что он привез из Лондона. Там, между прочим, есть маленький мошенник рассыльный, который стоит опершись на тумбу; кажется, что слышишь стук проезжающих мимо экипажей. Фон совсем не отделан, но фигура! Что это за человек? О, как глупы те, которые признают в нем одну только технику. Это могучий, оригинальный художник: он поэт, философ: остальные перед ним — ремесленники… После его картин, никакие другие не нравятся, ибо его картины прекрасны, как сама жизнь, как сама природа.
Ha днях Тони принужден был согласиться со мной в том, что нужно быть великим художником, чтобы копировать природу и что только великий художник, может понять и передать ее. Идеальная сторона должна заключаться в выборе сюжета, что до выполнения, то оно должно быть в полном смысле слова то, что невежды называют натурализмом.
Там есть также набросок маленького портрета Коплена старшего… я окаменела при виде его — это его гримаса, его руки шевелятся, он говорит, он подмигивает!
Понедельник, 24 августа. Я готова… растерзать весь мир! Я ничего не делаю. А время уходит; вот уж четыре дня как я не позировала. Я начала этюд под открытым небом, но дождь идет, и ветер все опрокидывает: я ничего не делаю.
Я вам говорю, что схожу с ума перед этой пустотой! Говорят, что эти мучения доказывают, что я не ничтожество. К сожалению, нет! Они доказывают только, что я умна и все понимаю…
Впрочем, я пишу три года.
Дураки думают, что для того, чтобы быть «современным» или реалистом, достаточно писать первую попавшуюся вещь, не аранжируя ее. Хорошо, не аранжируйте, но выбирайте и схватывайте, в этом все.
Среда, 23 августа. Вместо того, чтобы прилежно работать над каким-нибудь этюдом, я гуляю. Да, барышня совершает артистические прогулки и наблюдает!
Я перечла на английском языке одну вещь Уйда, женщины не особенно талантливой; она называется «Ариадна».
Эта книга создана для того, чтобы волновать до последней степени; я двадцать раз готова была перечесть ее вот уже в продолжении трех лет; но всякий раз я отступала, зная, как волновала и будет всегда волновать меня эта вещь. Там говорится о любви и искусстве, и дело происходит в Риме — три вещи, из которых каждая в отдельности достаточна, чтобы увлечь меня и наименьшая из них — любовь. Можно было бы исключить из книги все, что говорится о любви, и она тем не менее способна была бы свести меня с ума. К Риму я чувствую обожание, страсть, уважение, ни с чем несравнимые. Ибо Рим художников и поэтов, настоящий Рим, вовсе не соединяется в моем представлении с светским Римом, который доставил мне страдания. Я помню только поэтический и артистический Рим, перед которым я преклоняюсь.
В этой книге говорится о скульптуре; я постоянно готова заниматься ею.
О, дивная сила искусства! О, божественное, несравненное чувство, которое может заместить вам все! О, высочайшее наслаждение, которое поднимает вас высоко над землею! С прерывающимся дыханием и с полными слез глазами я падаю ниц перед Богом, умоляя его о помощи.
Это сведет меня с ума; я хочу делать десять различных вещей зараз: я чувствую, верю, понимаете-ли, верю в то, что сделаю что-нибудь выдающееся. И душа моя уносится на неведомые высоты.
Дюма совершенно прав: не вы владеете сюжетом, а сюжет вами. Человек, который ставит на карту 100 су, может испытывать те же муки, какие испытывает тот, кто ставит сто тысяч франков. Итак, я могу следить за собою.
Нет, нет! Я чувствую такую потребность передать свои впечатления, такую силу художественного чувства, столько смутных идей толпятся в моей голове, что они не могут не проявиться когда-нибудь…
Где и как найти способ выразить все это?
Вторник, 29 августа. Эта книга не дает мне покоя. Уйда — не Бальзак, не Жорж-Занд, не Дюма; но она написала вещь, которая волнует меня по профессиональным причинам. У нее очень верные взгляды на искусство — мнения, собранные в мастерских Италии, где она жила.
Там есть некоторые вещи… Она говорит, например, что у настоящих художников, не ремесленников, замысел всегда неизмеримо превосходит способность выполнения. Затем, великий скульптор Марикс (все в том же романе), видя скульптурные опыты героини, будущей гениальной женщины, говорит: «Пусть она придет работать, она сделает то, что захочет». Да, говаривал Тони, подолгу рассматривая мои рисунки в мастерской, работайте, вы способны выполнить то, что задумаете.
Но я несомненно работала в ложном направлении. Сен-Марсо сказал, что мои рисунки — рисунки скульптора; я всегда любила форму больше всего.
Я, конечно, обожаю и краски, но теперь, после; этой книги, и даже раньше… живопись кажется мне; жалкой в сравнении с скульптурой.
Что же я делаю? Маленькую девочку, которая накинула на плечи свою черную юбку и держит открытый зонтик. Я работаю на воздухе и дождь идет почти каждый день. И потом… что это может значить? Что это, в сравнении с мыслью, выраженною в мраморе?
Ариадна! Жулиан и Тони нашли, что в эскизе было чувство; меня этот сюжет волнует, как теперешняя картина. Вот уже три года, что я собираюсь заняться скульптурой, чтобы выполнить этот замысел.