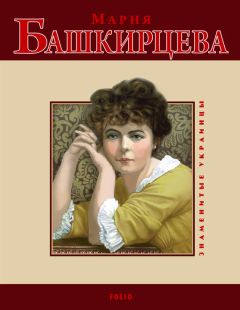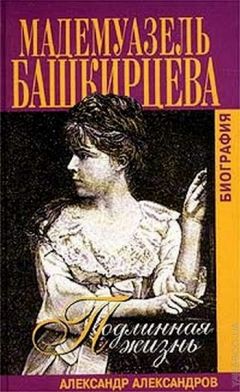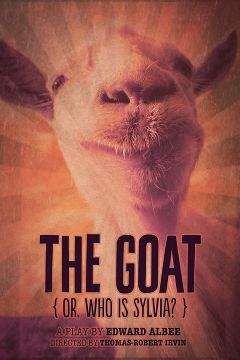Мария Башкирцева - Дневник Марии Башкирцевой
Я поеду в Бретань и буду там работать.
Вторник, 20 июня. О, как женщины достойны сожаления! Мужчины, по крайней мере, свободны.
Совершенная независимость в повседневной жизни, свобода идти куда угодно, выходить, обедать у себя или в трактире, ходить пешком в Булонский лес или в кафе — такая свобода составляет половину таланта и три четверти обыкновенного счастья.
Но, скажите вы, создайте себе эту свободу, вы, выдающаяся женщина!
Но это невозможно, потому что женщина, которая освобождает себя таким образом (речь идет о молодой и хорошенькой, разумеется), почти исключается из общества, она становится странной, чудачкой, подвергается пересудам, на нее обращают внимание — и она делается, таким образом, еще менее свободной, чем если бы она не нарушала этих идиотских правил. Итак, остается оплакивать свой пол.
Среда, 21 июня. Я все соскоблила и даже отдала холст, чтобы не видеть его больше; это убийственно. Живопись не дается мне. Но только что я уничтожила то, что окончила, как уже чувствую себя легко и свободно и готова начинать все снова.
Сегодня, в 5 часов, мы ходили в мастерскую Бастьена-Лепажа смотреть его эскизы; сам он в Лондоне и нас принял брат его Эмиль.
Я взяла с собою Брисбан и Л…, и мы провели превесело целый час, смеялись, болтали, делали наброски — и все было так хорошо, так прилично. Если бы я услышала о чем-нибудь подобном относительно Бреслау, я наверно стала бы жаловаться и завидовать тому, что она живет среди художников. Я имею то, чего желала — разве у меня от этого прибавилось таланта?
Пятница, 23 июня. В 5 часов Дина, Л… и я были у Эмиля Бастьена, который позирует для меня.
Я работаю с настоящей палитрой настоящего Бастьена, его красками, его кистью, в его мастерской и моделью служит мне его брат.
Конечно, все это глупости, ребячество и предрассудки; маленькая шведка хотела дотронуться до его палитры. Я оставила у себя его краски, бывшие на палитре; рука у меня дрожала, и мы смеялись.
Среда, 12 июля. Я готовлюсь к своей пресловутой картине, которая представит множество затруднений. Надо будет найти пейзаж вроде того, какой я себе представляю… и гробница должна быть высечена в скале… Я бы желала, чтобы можно было сделать это поближе к Парижу, на Капри: там настоящий Восток и не так далеко скала… скала… какая-нибудь скала… Но мне нужна была бы настоящая гробница, какие наверно есть в Алжире и в особенности в Иерусалиме — какая-нибудь еврейская гробница, высеченная в скале. А модели? Там-то я, конечно, найду отличные модели, в настоящих костюмах. Жулиан считает это сумасшествием. Он говорит, что понимает, если мастера, которые уже все знают, отправляются писать свои картины на месте, так как они едут искать недостающего им местного колорита, сочности, настоящей правды; мне же недостает… всего! Пускай! но мне кажется, что я именно этого и должна искать, потому что я могу иметь успех только при полной искренности: как же он может требовать от меня, чтобы я отказалась от того, что составляет мое единственное или почти единственное достоинство? Какой смысл будет иметь эта картина, если я напишу ее в Сен-Жермене с евреями из Батиньоля, в аранжированных костюмах? Тогда как там я найду настоящие, поношенные, потертые одежды и эти случайно подмеченные тона часто дают больше, чем то, что делаешь преднамеренно.
О, если бы я могла сделать это хорошо! Жулиан вполне понимает мою идею; я не думала (и очень ошибалась), чтобы он мог так глубоко проникнуться красотою этой сцены. Да, это правда. Нужно, чтобы в этом спокойствии было что-то ужасное, полное отчаяния, глубокого отчаяния… Это конец всего. В женщине, которая сидит там, должно выражаться больше, чем горе, — это драма колоссальная, полная, ужасающая. Оцепенение души, у которой ничего не осталось. И если принять во внимание прошлое этого существа, то во всем этом есть что-то до того человечное, интересное и величественное, до того захватывающее, что чувствуешь точно какое-то дыхание проходит по волосам.
И я не сделаю этого хорошо? Когда это зависит от меня? Я могу создать это своими руками, и моя страстная, непоколебимая, упорная решимость может оказаться достаточной? Неужели недостаточно того жгучего, безумного желания передать другим мое чувство? Полно! Как можно сомневаться в этом? Как могу я не преодолеть технических трудностей, когда эта вещь наполняет мое сердце, душу, ум и зрение?
Я чувствую себя способной на все. Только одно… я могу захворать… Я каждый день буду просить Бога, чтобы этого не случилось.
Как может моя рука оказаться неспособной выполнить то, что хочет выразить душа?.. Полно!
— О, Боже мой, на коленях умоляю Тебя… не противиться этому счастью. Смиренно, простершись во прахе, умоляю Тебя… даже не помочь, а только позволить мне работать без особенных препятствий.
Понедельник, 7 августа. Улица! Возвращаясь от Робера-Флери, мы велели ехать улицами, окружающими Триумфальную арку; было около шести часов и притом лето. Привратники, дети, мальчишки, рабочие, женщины, все это толчется у дверей, сидит на скамейках или болтает перед винными лавочками.
Но тут есть картины очаровательные! Положительно очаровательные! Я далека от того, чтобы сводить все на копию — это дело посредственностей; но в этой жизни, в этой правде есть восхитительные сцены! Величайшие мастера велики только правдой.
Я вернулась, восхищенная улицей, и те, которые смеются над натурализмом, — дураки и не понимают, в чем дело. Нужно суметь схватить природу и уметь выбирать. Все дело художника в выборе.
Четверг, 17 августа. Мне кажется, что Робер-Флери составил обо мне очень верное мнение; он принимает меня за то, чем я желала бы казаться, т. е. находит меня очень милой или, говоря серьезно, считает меня совсем еще молодой девушкой, даже ребенком, в том смысле, что разговаривая, как женщина, я в глубине души и перед самой собой чиста, как ангел.
Я право думаю, что он уважает меня в самом высоком смысле этого слова; я была бы очень удивлена, если бы он в моем присутствии сказал что бы то ни было… неприличное. Я всегда утверждаю, что говорю обо всем… Да, но на все есть своя манера; в разговоре может быть больше, чем приличие, может быть щепетильность; я может быть, разговариваю, как женщина, но употребляю метафоры, маскирую выражения так, что кажется, будто я и не касаюсь того, чего не следует. Это то же самое, как если бы я сказала «вещь, которую я написала», вместо того, чтобы сказать «моя картина».