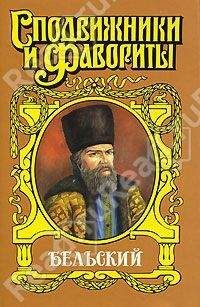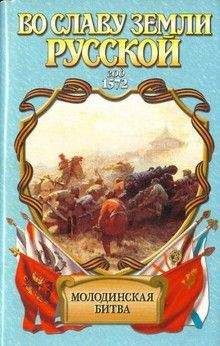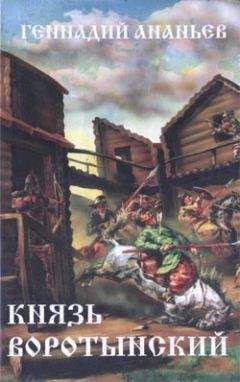Николай Любимов - Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1
Это ли не литературный портретист?
А вот как он характеризует серийное производство «рабоче-крестьянской» литературы 20-х годов: «…идеологически выдержанные повестушки с открытием кооператива и любовной сценой в лесу, сделанные топорно, неуклюже и “Нарочито”, по знаменитому рецепту: 50 % сырой публицистики, 50 % лошадиной эротики, с прибавлением известного количества замысловатых матюгов (для “художественности” и чтоб отбить запах)»[101].
Характеристики стилевых принципов разных авторов у Лежнева по большей части образны, при всей своей сжатости они заменяют страницы сухих описаний. Пример из «Прозы Пушкина» (1937): «Дом Бальзака основательный, с резьбой и украшениями; в нем много комнат, жилых, рабочих, парадных, много мебели разнообразных, иногда причудливых фасонов; тяжелые буфеты ломятся от посуды, шкафы полны белья и платья, полки гнутся под весом книг; на стенах висят редкие, фантастической расцветки ткани, картины и фарфор невольно привлекают внимание, и хозяин, подвижной сангвиник, радушно встречает гостей, с увлечением рассказывая им о происхождении и характере каждой вещи. Дом Пушкина прочен, но на него пошло минимальное количество материала; издали он представляется как бы нарисованным, а не построенным, – так тонки его линии; в просторных комнатах много света, они кажутся почти пустыми, ибо в них имеется только необходимая мебель; она простой и удобной формы и сделана из лучших пород дерева; хозяина нет, но все для вас приготовлено…»[102].
Так о писателях мог написать только писатель.
По полемическим статьям Лежнева я составил себе о нем представление как о жизнерадостном крепыше и просто глазам своим не поверил, впервые – в октябре 1933 года – увидев тщедушную эту фигурку в издательстве «Academia», где мы с ним и познакомились: «Да полно, тот ли это Лежнев, который написал цикл статей “Критика критиков”?..»[103]. В 1931–1933 годах его критических работ не печатали – в «Academia» он приносил свои переводы из Гейне. В одну из встреч я сообщил ему об одном из хамских выпадов против него в чьей-то – теперь уже не помню – журнальной статье. Лежнев, обнажив мышиные зубки, улыбнулся и, склонив по своей привычке голову набок, сказал:
– Я давно уже умег’ как кг’итик. Зачем они беспокоят мой пг’ах?
Только в 1934 году, незадолго до съезда писателей, Панферов привлек его к постоянному сотрудничеству в журнале «Октябрь», и там Лежнев печатал и критические и историко-литературные свои труды до ареста, последовавшего осенью 1937 года.
Летом 36-го года вышла книга Лежнева «Об искусстве», до этого печатавшаяся частями в «Красной нови» и в «Октябре». Я читал и перечитывал ее дома, брал с. собой, когда ехал по делам или к знакомым, и утыкал в нее нос, трясясь на задней площадке трамвайного прицепного вагона.
Осенью того же года я пришел вечером в Абраму Захаровичу (он жил до ареста в Сверчковом переулке), чтобы потолковать о его книге. Она у меня, по счастью, сохранилась – вместе с моими карандашными пометками на полях и с вложенным в нее листком, на котором я записал вопросы к автору. Ряд моих вопросов оказался плодом чистого недоразумения. Меня тогда особенно волновала проблема критерия художественности, и вот тут я, как выяснилось, понял Лежнева правильно.
– Вы очень верно меня поняли, очень верно, – с удовлетворением в голосе повторял он.
Я сказал Лежневу, что условно делю писателей на «реалистов в высшем смысле» (выражение Достоевского)[104] и на бытовиков, или, по выражению Вл. С. Соловьева, «приземистых» реалистов.
– Как, как? «Приземистых»? – улыбнувшись, переспросил Абрам Захарович. – Замечательно сказано!
– Я больше люблю «реалистов в высшем смысле», но, конечно, – тут же оговорился я, – скелеты леонид-андреевских абстракций (Андреев только и делал, что рубил деревья не по плечу) я не задумываясь променяю на сочность полнокровного купринского быта. Но Андреев не «реалист в высшем смысле». У подлинных «реалистов в высшем смысле» свои темы, свои идеи, которые, как вы пишете, «организуют реальность». У бытовиков таких тем, таких идей нет. Вот почему, если говорить о наших современных писателях, Сергеев-Ценский мне бесконечно ближе и дороже Алексея Толстого, который сильнее всего во фламандской живописи.
– Ценский – великолепный писатель, – сказал Лежнев, – но мне ближе Алексей Толстой.
(Кстати: в «Об искусстве» есть две фразы, посвященные Алексею Толстому. Если не считать статьи Воронского о Толстом – «Журавли над Гнилопятами», – это лучшее, что написано об авторе «Детства Никиты»: «Хорошо поставленный голос у Алексея Толстого. Поэтому кажется, что он пишет так легко, с такой безошибочной, непроизвольной уверенностью, с какой дышат, ходят, жестикулируют».)
Теперь я уж не помню, что́ говорил Лежнев о своем пристрастии к Алексею Толстому, но думается, что в Толстом, главным образом, прельщало его то же, что и в Льве Толстом, только у Льва Толстого это свойство возведено в N-ную степень: искусство воссоздавать воздух жизни. Об этом свойстве Льва Толстого Лежнев пишет в книге «Об искусстве».
Мы заговорили о Багрицком.
– Багрицкий, как вы знаете, на меня рассердился, но ведь прав-то был я, – заметил Лежнев. – От Багрицкого останется первая книга, а «Победителей» и «Последнюю ночь» уже сейчас невозможно читать. Сколько там фальши, натуги! У него пропал голос.
Тогда мне показалось, что Лежнев сгущает краски, но с течением времени я убедился в его дальновидности: он замётил, что Багрицкий полинял в первых же стихах, написанных после «Юго-Запада». А дальше Багрицкий все быстрей и быстрей пошел под уклон.
Я и сейчас не согласен о Лежневым в одном пунктике. В «Об искусстве» он дает блестящую и в целом верную характеристику Валентину Катаеву:
«Вероятно, самый способный у нас писатель Валентин Катаев. Он написал большой производственный роман почти без материала – и роман этот читается с увлечением (Лежнев имеет в виду “Время, вперед!”. – Я. Л.). <…>
Многое в Катаеве становится понятным, когда прочитаешь его пьесы. Это – чистое умение, почти без примеси реальности. Это – формула смеха, не овеществленная и тем не менее действенная. Это – алгебра комизма, где на место буквенных величин еще не подставлены арифметические значения. Правду говоря, она несколько устарела и отзывает французским учебником. Но все выполнено с таким блеском, что начинаешь невольно верить, что за видимостью и впрямь что-то скрывается, хотя не скрывается ровно ничего и формула остается бессодержательной и полой».
Я вступился только за «Квадратуру круга».