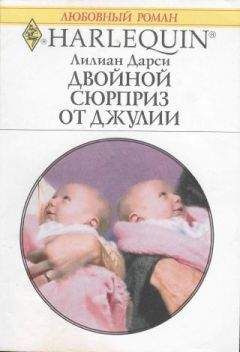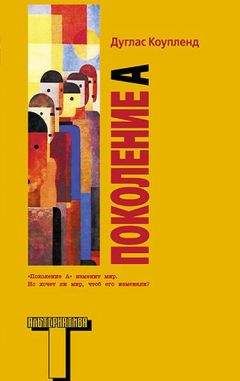Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)
Акцинтш был тихий, задумчивый человек. В режимную бригаду он попал из строительной бригады, куда его списали позже за какую-то неугодность лазаретному начальству. В строительной бригаде он начал готовиться к побегу, но его продали, и в результате — режимная бригада. Там его жизнь трагически оборвалась. Одно время режимную бригаду водили на шахту под землю. В тот роковой день, когда кончилась смена, их стали поднимать по четыре человека в клети вверх. Клеть, в которой поднимался Акцинтш, уже почти на самом верху стала замедлять ход, потом остановилась и начала медленно, потом все быстрее падать вниз. Один из них пытался выскочить, но не рассчитал скорость и был раздавлен. Трое оставались в клети, причем, один из них, чечен, все время прыгал. Он, единственный, остался в живых, хотя и калекой. Собригадники, ждавшие внизу подъема, рассказывали, что сначала услышали шум в стволе, потом промелькнула клеть, и раздался удар о дно ствола, а затем стал падать стальной канат, падать и выворачиваться в рудный двор, раскручиваясь кольцами, и наступать на людей. Все бросились врассыпную. А когда канат улегся, стали слышны стоны людей. Все еще были живы. Наконец появился конвой и носилки. Пострадавших долго перетаскивали в другую шахту, так как подъем был здесь невозможен. В одном месте носилки бросили — началась отпалка — взрывание руды. Так, с огромными задержками их доставили в лазарет, где на другой день двое скончались.
Авария получилась от того, что канат, на котором поднимали клеть, был плохо укреплен на барабане. В какой-то момент крепление перестало держать, и клеть своей тяжестью стала канат разматывать. Если б канат просто оборвался, то сработали бы «парашюты» и остановили клеть. Был составлен акт, и на этом дело кончилось. Акцинтша было страшно жалко. Это был очень хороший, благородный и чистый человек. Встречаешь таких не часто.
Но вернусь в лазарет. Работа моя в должности санитара была сложной и многогранной: белье, чистота, порядок, кормление, вода, мухи, наблюдение, чтобы ничего не сперли. Вольное начальство строго взыскивало за упущения, и всегда была угроза возврата на общие работы. Надо было все «блюсти» и не быть при этом сволочью. Особенно большие трудности были с водой, привозили ее в обрез. Воду доставали всякими правдами и неправдами, в основном воровали по ночам из водохранилищ на кухнях лагпунктов (тогда было еще вольное хождение из лагпункта в лагпункт). При каждом больничном отделении состояли свои, как бы штатные, работяги, которые после основной работы за зоной, шли в лазарет делать всякую работу, какую предложат, в том числе, и воровать воду; делали все это за миску баланды или каши, которую мы, санитары, что греха таить, выкраивали из скудного пайка больных. Этими «выкройками» я иногда подкармливал и своих знакомых, работавших на общих работах. Был и другой вид заработка. По многим статьям лазарет жил на самообслуживании. Мелкий ремонт помещений, побелка, покраска, натирание полов, мебель, оконные стекла — все это делалось из своих материалов, то есть приносилось (воровалось) со строительства из-за зоны. Истории болезней писались обычно на бумаге из мешков, в которых возят цемент. Были специальные заключенные, которые приносили эту бумагу, предварительно расшив мешок и тщательно выбив цементную пыль. Старые перья, которыми писали на такой бумаге, очень быстро стирались (одно время все анализы писались на этикетках, снятых с банок из-под сгущеного молока). В лазаретную хлеборезку специальный заключенный доставлял деревянные палочки для прикалывания довесков хлеба к основной пайке. Более крупные услуги, например, партия масляной краски для панели больничного коридора, требовали и более высокой оплаты. Нередко таких людей просто клали в лазарет на неделю, другую под видом лечения. О транспорте в лагерь большой партии олифы, стекла или известки ставили в известность надзирателей, обыскивающих заключенных на вахте. Медицина есть медицина, и дружбой с ней не пренебрегали даже надзиратели. Вольное начальство все это видело и не замечало. Несколько лет спустя, когда я после «режимки» работал фельдшером хирургического отделения, я устроил пребывание в лазарете с подозрением на аппендицит своего знакомого Кожина, которого теснил контролер уж не помню за что. Ему надо было переждать некоторое время. В лазарете Кожин весьма дотошно делал огромную вывеску на стекле для хирургического отделения. Контролер пожаловался начальству. Начальство лагпункта запросило начальницу лазарета доктора Файнблут (тогда уже Яшину). Она осмотрела «больного», поняла, в чем дело, и оставила доделывать вывеску.
В гнойном отделении было два фельдшера: Володя Баздырев и Иван Реши — русский и западный украинец. Иван уже кончал срок, бандеровцем не был, а скорее всего был стукачем, нрав имел веселый, балагуристый. По освобождении его оставили в Джезказгане, и он работал на скорой помощи. Однажды эта скорая помощь привезла в лазарет заключенного с травмой. К Ивану, как старому знакомому, подошли мы, но он стал явно нас чураться, боязливо оглядываться, вернулся в кабину машины, закрылся там, показав тем самым всю разницу в нашем и его положениях.
В чистом хирургическом отделении я встретил старого знакомого — Лешку Карнаухова, с помощью которого так необычайно закончился мой первый лагерный день. Лешка меня окликнул, я подошел, разговорились. Ему, оказывается, здесь удаляли из желудка проглоченную столовую ложку — довольно обычный прием бывалого блатного, не желавшего ехать по этапу — какое-нибудь членовредительство, и он в больнице. Этап уходит, не дожидаясь, а он остается. Когда-то будет следующий. Но в то время этапов было много, и выздоровевшего Лешку увезли. Так он исчез с моего горизонта.
Санитаром я проработал всего месяц. Процесс удаления из лазарета бандеровцев — списывали фельдшеров — продолжался. Из кухни были сняты два повара — западных украинца. Не исключено, что они были членами в сети с центром у Заричного. Их отправили в режимную бригаду. Главным поваром стал эстонец, пожилой, в очках с типичным для этой нации акцентом. Увидев у меня присланную Еленкой фаянсовую кружку какой-то очень благородной пропорции и с синим ободком, он сейчас же ее схватил, перевернул вверх донышком и сам себя вслух успокоил: «Не советская!» Вместо снятых фельдшеров подбирали кого могли. Доктор Дзиркалис выставлял свои кандидатуры. Тогда и врач Зотов, как-то прогуливаясь со мной вокруг больничных бараков, предложил мне перейти в фельдшера: «Ты все же русский, а эти — гыр, гыр, гыр — продадут и не узнаешь». Так я стал фельдшером терапевтического отделения.
Скажу откровенно, практики у меня было маловато, а точнее — никакой. Хорошо помню первый день, вернее, первую раздачу лекарств больным по палатам. При этой раздаче меня сопровождал сменяемый западный украинец — «дьячок», как говорил про него Зотов, немного знающий латынь. Был ли он настоящим фельдшером — сказать не могу. «Дьячок» — сутуловатый, с бородкой, старше меня, передал фанерку, на которой были написаны фамилии больных с назначениями, кому что давать, и плоский ящичек с отделениями, в которых лежали порошки. Мы тронулись по палатам, «дьячок» только смотрел, и я попал в положение Остапа Бендера в шахматной игре на 32 досках. Что, например, значило Регп 1ас(дс1 0.3х3 или Т-гае ТЪегтор818 15х2? Я что-то давал больным, «дьячок» молчал. Я понимал, что больного не отравлю, что ядов тут нет, но что я опозорюсь перед соперником, которого волею судеб вытеснял с его места. Не знаю, сколько у меня было ошибок, но фельдшером я остался.