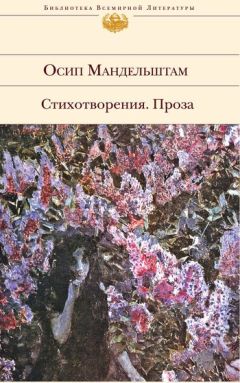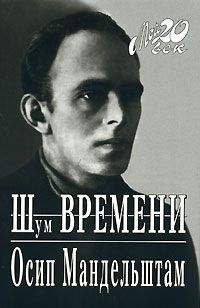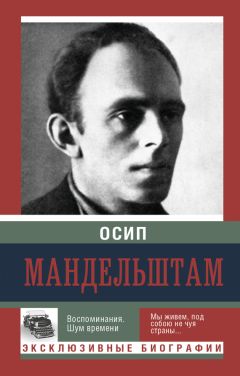Надежда Мандельштам - Мой муж – Осип Мандельштам
В Москве на Тверском бульваре со мной жил замкнутый и суровый человек первой половины двадцатых годов, когда он искал свое место в мире. В то время он обращался со мной, как с добычей, которую насильно приволок в свою конуру. Все его усилия сводились к тому, чтобы изолировать меня от людей, завладеть мной и взять меня в руки и приспособить к себе. В те годы он упорно делал из меня не читательницу, а слушательницу стихов, учил воспринимать их с голоса. Мне в руки он книг не давал, а сам листал их со мной, показывая мне удачи и провалы поэтов начала двадцатого века. Я чувствовала себя лошадкой в руках дрессировщика, и дело действительно сводилось к этому, хотя дрессировкой он вряд ли занимался сознательно. В одном ему повезло: я охотно поддавалась и была сговорчивой и легкой добычей – мирно ела сено из его рук. Единственное, с чем я с трудом мирилась, это отказ от общения с людьми, которого он требовал и от меня – не словами, а просто не отпуская меня из дому. И в свою жизнь он меня тогда не пускал, и я могла только догадываться, о чем он думает. Несколько легче стало на Якиманке, когда мы попали в изоляцию и он перестал бояться, что я удеру в его отсутствие в кабак, на аэродром или к подружке, чтобы почирикать.
Второй период начался после ленинградского кризиса, когда, отказавшись от Ольги Ваксель, он увез меня в Царское. Розанов где-то написал, что измена скрепляет семейную жизнь, и мы попали под общее правило, хотя семьей не были и не семейное связывало нас. Я с горечью подумала сейчас об этом, как и о другой особенности нашей жизни: в любой паре приспособляются двое, Мандельштам ни к чему приспособляться не умел и не хотел, и я, в которую он вложил большой труд, приспособляя меня к себе, была ему нужна больше, чем любая новая женщина, потому что с новой пришлось бы начинать все с самого начала, да еще неизвестно, что бы получилось. Я это сказала ему в Царском. Он очень рассердился, но мне думается, что это сыграло немалую роль в его привязанности ко мне.
Второй период ознаменовался тем, что я перестала быть добычей, украденной Европой, девчонкой, за которой нужен глаз да глаз. Нас стало двое. Быть может, это произошло оттого, что мы впервые заговорили о наших отношениях и кое-как в них разобрались. Разговор больше не прекращался. С тех пор я всегда знала, чем он живет, и ревновать он стал меня меньше, чем раньше, хотя и этого бы хватило на десяток женщин. Почувствовала я и заботу, которой раньше не знала. Он был «няней» и раньше, но, видно, так испугался, чуть не потеряв меня, что стал в тысячу раз больше опекуном, другом, чем надсмотрщиком и дрессировщиком. Оказалось, что Мандельштам способен на все, чтобы меня сохранить, даже на каторжный труд и временную разлуку, на что бы раньше ни за что не согласился. С какой стати иметь жену и жить одному! Он так не говорил, но в нем это чувствовалось. После Царского Села мы жили в Луге, а потом он загнал меня в Ялту – к этому периоду относится большинство писем. Пансион на одного стоил сто пятьдесят, а на двоих двести пятьдесят рублей. Приходилось в день переводить чуть ли не половину печатного листа – за лист платили рублей тридцать. Гонорары были попросту нищенские, как на Апраксином рынке, и, как мы узнали от Нарбута, никакой роли в калькуляции книги не играли. Переводилась абсолютная дрянь, отрава, хотя всякий принудительный перевод для поэта губителен. Я не случайно огорчалась и в каждом письме умоляла отпустить меня в Киев к родителям – Мандельштам так закабалил себя работой, что даже передохнуть не мог. При этом каждый перевод выдирался когтями! Об этом лучше расскажут письма, где Мандельштам бесстыдно врет, как хорошо складываются дела и со всех сторон льются золотые ручьи. Он успокаивал меня, чтобы удержать в Ялте. Переводы уже тогда использовались как отличный и на редкость действенный способ уничтожения литературы. Стихотворный, как и прозаический, перевод насильственных книг заглушает всякую мысль и убивает слово. У кого хватит сил после переводческой балаболки думать или говорить? Непонятно, как Мандельштам умудрялся писать письма. Они приходили почти ежедневно, а кроме них – груды телеграмм, в которых он умолял меня спокойно жить в туберкулезном городке, толстеть, слушаться врачей и дожидаться его приезда. Я дождалась.
Поздней весной мы уехали в Киев (на Горку сходили), а потом в Царское Село, где прожили два года. Зимой 27/28 года Мандельштам написал «Египетскую марку». Я научилась кропать за него какие-то обработки для «ЗиФа», и он получил передышку. Ленинград уже не кормил: жизнь у нас лишена стабильности. Как в басне Крылова, все время пересаживаются и улучшают организацию. Потом, работая в вузах, я увидела, что каждый год преподают по временным программам в ожидании стабильной, которая, просуществовав год, в свою очередь отменяется. Точно так обстояло и с издательствами, которые непрерывно реорганизовывались, а литераторы в поисках заработка метались из одного города в другой. Всегда не хватало и не хватает бумаги, и книги снимаются с плана. Сейчас это уже почти не играет роли: в печать лишь изредка попадает то, что хочется прочесть.
В молчании Мандельштама большую, хотя и механическую, роль сыграли переводы. О нем начали писать, что он бросил поэзию и перешел на переводы, когда ничего подобного еще не было, но потом добились своего – рот ему заткнули. Лишь после истории с Уленшпигелем Мандельштам бросил литературу, то есть переводы, и освободился от кабалы. С путешествия в Армению и возвращения стихов начался третий и последний этап в наших отношениях. Мандельштам освободился от гипноза, пережитого всей страной, и перестал ощущать «новое» как будущее тысячелетие. Тогда-то на обратном пути из Армении – в Тифлисе – к нему вернулись стихи. Впервые за многие годы он почувствовал прошлое и восстановил с ним связь. «Усыхающий довесок прежде вынутых хлебов» страдает от своей связи с прошлым и считает, что она лишает его права на современность. (Это, кажется, Маяковский сбрасывал непослушных «с корабля современности»? Бедняга!) Освободившись, Мандельштам жил настоящим и прекрасно знал, что оно принадлежит ему, а не тем, кто размахивал патентом на настоящее и без церемонии предсказывал будущее. С начала тридцатых годов Мандельштам уже не обращал внимания на предсказателей – он снова обрел полную внутреннюю свободу.
Перед самым отъездом в Армению произошел любопытный казус. Мандельштам был в тяжелом состоянии, пошел к врачам, а те погнали его – тут же в поликлинике – к психиатру. Когда я приехала из Киева, куда ездила на похороны отца, Мандельштам попросил меня сходить поговорить с психиатром. Он оказался примитивным и очень решительным врачом. Его концепция болезни была такая: больной вообразил себя поэтом, выдумал, будто пишет стихи и его знают как поэта, а на самом деле он мелкий служащий, даже не заведует отделом, и носится с какими-то обидами, плохо говорит про писательские организации. Психоз известный – мания преследования на почве идеи о том, что ты что-то значишь. В больницах полным-полно больных, воображающих себя Наполеонами (он не решился сказать: «членами политбюро»). И к тому же совершенно неинтересный больной с однообразным и скучным бредом. Бывают интересные больные, а бывают неинтересные. Бред в чем-то отражает степень развития. К тому же бред глубокий – больного нельзя переубедить в том, что он поэт. Мне врач рекомендовал не заражаться психозом (я пробовала объяснить, что у Мандельштама были кое-какие основания говорить про стихи) и решительно останавливать все разговоры про стихи. Я пришла домой в бешенстве: ну и идиот – вроде как в милиции или в любимом учреждении. Мандельштам неожиданно сказал, что врач не так глуп. «Ведь я тебе писал, что не хочу фигурять Мандельштамом. Я эту сволочь заметил, когда они на меня бросились, да еще возмутился. Они только и делают, что бросаются. Чем я лучше других?» Это был вывод из визита к врачу, которого я бы не сделала. Думаю, что причина легкости, с которой он сделал вывод, в том, что «Четвертая проза» уже была написана.