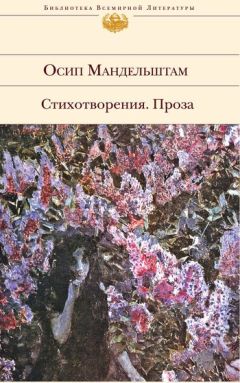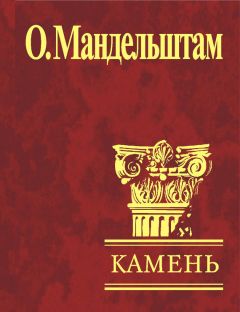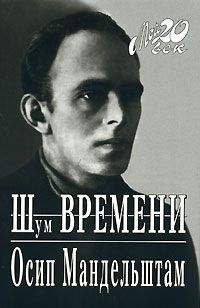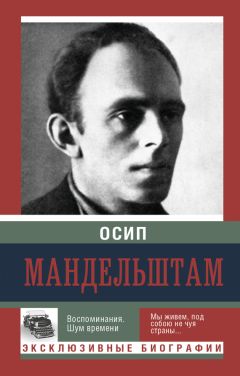Надежда Мандельштам - Мой муж – Осип Мандельштам
Вскоре нашелся подходящий чердак, где разместились человек пять шпаны, хотя там могло поместиться втрое больше. Л. с товарищами отправился на разведку. Вход оказался заколоченным досками. Одна доска поддалась. Л. сорвал ее и очутился лицом к лицу с представителем шпаны. Л. уже готовился к бою, но хозяин вежливо представился: «Архангельский»… Вступили в переговоры. Оказалось, что комендант предоставил этот чердак Архангельскому с товарищами. Л. предложил пойти вместе к коменданту, на что Архангельский вежливо согласился. Комендант занял неожиданную позицию – он постарался примирить стороны. Он мог почувствовать уважение к Л., который не побоялся ввязаться в конфликт со шпаной, или же принял и его за уголовника. Он сказал: «Такое положение – надо учесть… потесниться… жилищный кризис»… Одержав победу, Л. вернулся к товарищам, чтобы выбрать среди них десяток для вселения на чердак, но они передумали и не захотели селиться со шпаной: обокрадут! Л. пробовал их уговаривать: красть у них нечего, а численностью они будут вдвое превосходить шпану, но они предпочли остаться под открытым небом. А у Л. появился новый знакомый – при встречах они всегда раскланивались с Архангельским. Встречи обычно происходили в центре лагеря, где всегда была толкучка и шли торг и обмен.
Однажды Архангельский пригласил Л. зайти вечером на этот самый чердак, чтобы послушать стихи. Ограбления Л. не боялся – месяцами он спал не раздеваясь, и его лохмотья не соблазнили бы даже лагерного вора. У него сохранилась только шляпа, но в лагере это не ценность. Ему показалось любопытным, что это за стихи, и он пошел.
На чердаке горела свеча. Посередине стояла бочка, а на ней – открытые консервы и белый хлеб. Для голодающего лагеря это было неслыханным угощением – люди жили чечевичной похлебкой, да и той не хватало. К завтраку на человека приходилось с полстакана жижи…
Среди шпаны находился человек, поросший седой щетиной, в желтом кожаном пальто. Он читал стихи. Л. узнал эти стихи – то был Мандельштам. Уголовники угощали его хлебом и консервами, и он спокойно ел – видно, он боялся только казенных рук и казенной пищи. Слушали его в полном молчании, иногда просили повторить. Он повторял.
После этого вечера Л., встречая Мандельштама, всегда к нему подходил. Они легко разговорились, и тут Л. заметил, что О. М. страдает не то манией преследования, не то навязчивыми идеями. Его болезнь заключалась не только в боязни еды, из-за которой он уморил себя голодом. Он боялся каких-то прививок… Еще на воле он слышал о каких-то таинственных инъекциях или «прививках», делавшихся «внутри», чтобы лишить человека воли и получить от него нужные показания…
Такие слухи упорно ходили с середины двадцатых годов. Были ли для этого какие-нибудь основания, мы, конечно, не знали. Кроме того, в ходу было страшное слово «социально опасный» – ведь ОСО в основном ссылало за потенциальную «социальную опасность»… И вот в больном мозгу это все смешалось, четвертого по счету ареста он не выдержал, – и О. М. вообразил, что ему привили бешенство, чтобы действительно сделать его «опасным» и поскорее от него избавиться.
Он забыл, что избавляться от людей у нас умели без всяких «прививок»…
В психиатрии Л. не понимал, но ему очень хотелось помочь О. М. Спорить с ним он не стал, но сделал вид, будто считает, что О. М. вполне сознательно и с определенной целью распространяет слухи о своем «бешенстве». Может быть, для того, чтобы его сторонились… «Но меня вы же не хотите отпугивать», – сказал Л. Хитрость удалась, и, к его удивлению, все разговоры о бешенстве и прививках прекратились.
В пересыльном лагере на работу не гоняли, но рядом, на территории, отведенной для уголовников, по правилам пятьдесят восьмую статью как особо вредную должны были изолировать от всех прочих, но из-за перенаселения это правило почти не соблюдалось, – шло движение: что-то разгружали и куда-то перетаскивали строительные материалы. Работающим никаких преимуществ не полагалось, им даже не увеличивали хлебного пайка, но все же находились люди, просившиеся на работу. Это те, кому надоело толкаться на пятачке пересыльного лагеря среди обезумевшей и одичавшей толпы. Им хотелось вырваться хотя бы на соседнюю, менее заселенную территорию и таким образом удлинить прогулку. И наконец, молодежь после длительного пребывания в тюрьме нуждалась в физических упражнениях. Потом, истомленные непосильным трудом стационарных лагерей, они, разумеется, не стали бы добровольно нагружать себя работой, но это была «пересылка».
Среди добровольцев оказался и Л. Этот человек не падал духом. Чем невыносимее были условия, тем сильнее оказывалась его воля. По лагерю он ходил, сжав зубы, и упорно повторял про себя: «Я все вижу и все знаю, но даже этого недостаточно, чтобы убить меня». Его помыслы были направлены на одну цель: не позволить уничтожить себя, сохранить жизнь вопреки всему. Я хорошо знаю это чувство, потому что точно так же, сжав зубы, прожила почти тридцать лет. И поэтому я отношусь с огромным уважением к Л.: ведь я знаю, чего стоило сохранить жизнь в обычных условиях, а он поставил себе эту труднейшую задачу в лагере тридцать восьмого года и не отказался от нее в течение всех страшных лет. Он вернулся в 56 году больной туберкулезом, с безвозвратно загубленным сердцем, но все же вернулся, и психика его осталась нетронутой, и память сохранилась лучше, чем у большинства наших людей на воле.
На работу Л. взял с собой напарником О. М. Это было возможным, потому что на «пересылке» никаких норм выработки не существовало, да и сам Л. надрываться не собирался. Они грузили на носилки один-два камня, тащили их за полкилометра, а там, свалив груз, садились отдохнуть. Обратно носилки нес Л. Однажды, отдыхая на куче камней, О. М. сказал: «Первая моя книга называлась «Камень», а последняя тоже будет камнем»… Л. запомнил эту фразу, хотя не знал названия книги О. М., и он прервал свой рассказ, спросив у меня: «А его книга действительно называлась “Камнем”?» Ему было приятно, когда я подтвердила, потому что он лишний раз на этом проверил свою память…
Вырвавшись из толпы, в сравнительном безлюдье и спокойствии территории уголовников, оба они воспряли духом.
Рассказ Л. объясняет фразу из последнего письма О. М.: он пишет, что выходит на работу и это подняло настроение. Все утверждали, что в «пересылке» на работу не посылают, и я никак не могла понять, в чем дело. Все разъяснилось благодаря Л.
В начале декабря вспыхнул сыпняк, и Л. потерял О. М. из виду. Лагерное начальство приняло энергичные меры: ссыльных загнали в бараки, где сразу освободились места заболевших, заперли на замок и никуда не выпускали. По утрам барак открывался, меняли парашу, а санитары мерили всем температуру. Такая тюремная профилактика, разумеется, ни к чему не приводила, и болезнь косила людей. Заболевших переводили в изоляторы, о которых ходили чудовищные слухи. Люди пугали друг друга рассказами об изоляторах. Считалось, что живым оттуда не выйти.